Преодоление защитной реакции: Евгения Некрасова и Алексей Поляринов о том, как писать о современности. Часть 1
В прошлом году был открыт первый набор на курс актуального письма и литературного менеджмента «Современные литературные практики», кураторами которого стали писательница Евгения Некрасова, поэтесса Оксана Васякина, продюсер Татьяна Новоселова, социолог литературы Евгения Вежлян и филолог Алеся Атрощенко. Цель курса — способствовать созданию нового поколения авторов, которые смогут рассказать о современности и о частном или коллективном опыте оригинальным и адекватным реальности языком. До 15 апреля идет прием заявок на второй поток, который будет проходить онлайн. На одном из занятий курса писатели Евгения Некрасова и Алексей Поляринов поговорили о стремительно устаревающем будущем, фейковой актуальности и языке, на котором можно писать о современности. Публикуем первую часть разговора.

Евгения Некрасова, писательница

Алексей Поляринов, писатель
Алексей Поляринов: Есть такой видеоблогер, ее зовут Линдси Эллис на YouTube. Если вы воспринимаете английский на слух, рекомендую ее канал. Она делает видеоэссе о культуре и кино. Не просто как BadComedian высмеивает актеров и сценаристов, она берет какой-то топик — например, феминизм в кино, — и раскручивает его через какие-то фильмы вроде «Красавицы и чудовища». У нее есть большое видео про 11 сентября, где приводится очень смешной пример — насколько может быть смешным пример про 11 сентября, — она рассказывает про фильм «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером. Он снят в середине 90-х, это очень несерьезное кино, где главный герой пытается решить проблемы в семье и параллельно — победить террористическую организацию под названием «Кровавый джихад». По тому, как она называется, уже понятно, что никто всерьез не относился, когда писал сценарий, ко всему этому делу. Вообще весь фильм очень комедийный, заканчивается тем, что Арнольд Шварценеггер выстреливает ракетой, на которой сидит террорист, с фразой «You’re fired». То есть более несерьезного отношения к терроризму нельзя придумать. Он был довольно успешен, собирались делать сиквел. Когда бахнуло 11 сентября, все сразу отменили. Они стали притворяться — студия, — что этого не было. Когда у Джеймса Кэмерона спросили, почему отменили, почему не будет сиквела, он ответил гениальной фразой: «Терроризм — это больше не смешно». Абсолютно дико звучит, у меня нервный смех каждый раз, когда я это вспоминаю, но культура переживает полную перезагрузку. Мы с тобой обсуждали эту штуку, что нулевые после 11 сентября в американской литературе целиком построены вокруг этого дня.
Евгения Некрасова: Притом, не только в литературе. Это был очень серьезный, повсеместный процесс. Моя любимая Тори Эймос — она сейчас живет в Англии — просто села в машину, проехала через всю Америку и записала альбом, который называется Scarlet’s Walk. Тут разные трактовки: путешествие героини по имени Скарлетт через Америку или же кровавый след. Тори пыталась переоткрыть Америку, понять её. В литературе давай вспомним. Самый знаменитый пример — «Жутко громко и запредельно близко». Герой — мальчик — очень близко соприкасается с трагедией 11 сентября, в ней погиб его отец. Из неочевидных и недавних — «Мой год отдыха и релакса». Героиня живет в Нью-Йорке в 2000 году, ее подруга уже в финале романа устраивается работать в офис, который находится в одной из башен. Это текст о депрессии и одиночестве. Героиня спит почти весь роман. Он очень смешной, сатирический. Маша Закрученко интересно написала, что это роман о том, откуда взялись хипстеры, как они родились. Это, в общем, действительно так. Нью-Йорк, 2000 год, и ты читаешь и примерно понимаешь, к чему движешься. При этом роман не про 11 сентября. И там нет спекуляция и эксплуатации темы. Автор, а вместе с ним и мы, живет в таком мире, в котором он не может игнорировать эту трагедию.
А. П.: И вот здесь мы подходим к России, у которой долгое время был «свой путь». Русский писатель, когда он пишет абсолютно про что угодно, не может не привязать это как-то к развалу Союза. Но при этом все, что было после развала Союза — оно как бы не существует у нас, видимо. Донна Тартт попыталась притвориться, что не было 11 сентября, а все равно теракт у нее есть. Оно все равно туда пролезает, хотя «Щегол» — это абсолютно притча-сказка, она специально все убирает. Можно вспомнить, наверное, такой прием специальный — убирание всего. Это, кстати, к вопросу о писательстве о современности: автор просто взял и все убрал, а все равно теракт у нее произошел. Никуда не денешься от этого.

Е. Н.: А ты считаешь, что то, что мы не можем игнорировать, — это развал Союза?
А. П.: Да, я подойду к этому обязательно, потому что это то, чем мы закончим. Есть же, вот Уильям Гибсон, который в 80-е начинал как фантаст, стал флагманом киберпанка, а потом в девяностых киберпанк умер, и Гибсону стало тесно в фантастике, а потом случилось 11 сентября, и Гибсон написал трилогию Бигенда, которая целиком про наше время, про настоящее. В его романе «Распознавание образов» 11 сентября — это важный не сюжетный, но драматический элемент текста, потому что отец главной героини там пропал без вести в этот день. То есть Гибсон просто не мог об этом не написать. При то, что сам роман про cool hunting, про бренды и современную рекламу, как она нас определяет. Одна из ключевых фраз этого романа, которая мне запомнилась, я люблю ее повторять, принадлежит антагонисту этого романа, владельцу рекламного агентства, он говорит: «Сегодня на раскрутку и продвижение продуктов тратится больше, чем на сами продукты, причем во многие-многие разы». Это неточная цитата, но суть именно в этом. Об этом, собственно, роман. Про симулякр важности, который создается вокруг продуктов, в который вкладываются основные деньги, а продукты не так важны.
Е. Н.: Кстати, у нас фактически никто, кроме Пелевина, про это не писал. Не было такого осознания, такого фикшн, даже беллетристики. Я помню, в начале 2000-х все носились с «Generation P», я работала тогда копирайтером. Многие рекламщики знали его наизусть, это была их профессиональная книга. Пелевин считался кем-то вроде рекламного святого. У меня было такое ощущение, что вот, я живу, занимаюсь такой модной профессией, и одновременно есть модный писатель, который со мной. Такое странное абсолютно совпадение реальности и хорошей литературы.
А. П.: Потому что Пелевин, мне кажется, это тоже важная штука, очень американский писатель. Он в общем не очень русский. Он очень хорошо знал язык, он редактировал переводы Кастанеды и побольше других своих коллег в 90-е очень во многом разбирался. И вот этот его «Омон Ра», его «Чапаев и пустота», все его романы 90-х — все это как раз очень американский и европейский подход человека, который сразу хватает и начинает с этим работать.
Е. Н.: Переворачивать, переводить на язык… Просто люди, которые были взрослыми в 90-е и работали в конце 90-х, рассказывали, что они настолько не понимали, что происходит, была эта хтонь, смешанная с абсурдом, деньгами, свободой, непонятной политической ситуацией, отсутствием государства и так далее, и вот это было единственное объяснение, почему это происходит. Богиня Иштар, число 34, какие-то силы… Сейчас выяснилось, что мы все очень любим Пелевина.
А. П.: В принципе, и Сорокин же про 90-е. Полный абсурд в его «Сердцах четырех» — про людей, которые бросают кости и творят бесчинства, потому числа так сказали.
Е. Н.: Нет системы, больше нечему подчиняться.

А. П.: И два наших ясных солнышка — Пелевин и Сорокин, — которые очень хорошо это ухватывали сразу.
Е. Н.: Это такой западный подход к реальности.
А. П.: Абсолютно. У нас это вытравлено было, уничтожено в СССР.
Е. Н.: Кто у нас еще так работает?
А. П.: Буквально сейчас?
Е. Н.: Да, буквально в 2020 году, в 2019-м.
А. П.: Ты имеешь в виду кого-то из старшего поколения?
Е. Н.: Из младшего тоже.
А. П.: Последний, я знаю, Дмитрий Захаров. У него там уличный художник — таинственный, — который создает фрески, и политики умирают. В конце должен умереть президент.
Е. Н.: А Горалик? Она работает не с русской повесткой, а с мировой. «Все, способные дышать дыхание», где существа, у которых не было голоса, его наконец-то получают. Там про все, что угодно, можно говорить: про женщин, про мигрантов… Очень универсальная история.
А. П.: Все-таки современная литература, она всегда более приземленная, почему за последние двадцать лет у нас такие проблемы с этим? У нас многие уверены, что нужно писать про условное средневековье — это будет как бы такая притча, в которой все всё поймут, но ни в коем случае нельзя вписывать туда Facebook, потому что это сразу сделает роман каким-то ненормальным и неправильным. Я сейчас даже подготовил цитату — чтобы вы понимали, что это не только для нас характерно. У Уоллеса есть очень известное эссе, которое выйдет, наверное, в конце этого года — мы тоже перевели — E Unibus Pluram. Оно написано в 1990 году, там 42 страницы мелким шрифтом — писатель размышляет о постмодернизме, выводит оттуда новую искренность, и, в частности, есть один абзац, где он просто негодует — чтобы вы понимали, это не только у нас такая проблема, они ее, наверное, уже преодолели. Но вот в 1990-м Уоллес пишет так: «На одном из курсов творческого письма одно серое высокопреосвященство (это буквальный перевод, видимо, он очень не любил этого преподавателя) пыталось нас убедить, что при работе над рассказом или романом следует избегать „любых примет, какие привязывают нас ко времени“, потому что „серьезная проза должна быть вне времени“. Когда мы запротестовали, указав на то, что в его собственных широко известных текстах персонажи ходят по комнатам с электрическим освещением, водят машины и говорят не на англосаксонском, а на послевоенном английском и населяют Северную Америку, уже отделенную от Африки континентальным дрифтом, он нетерпеливо перенес запрет только на те очевидные отсылки, которые привязывают историю к легкомысленному сейчас. Когда мы надавили, требуя пояснить, что конкретно он понимает под этим легкомысленным сейчас, он сказал, что, конечно же, имел в виду все эти отсылки к модным и популярным масс-медиа. И вот в этом месте межпоколенческий дискурс сломался…» У меня такое ощущение, что это был какой-то советский писатель.
Е. Н.: Слушай, а как насчет Янагихары, которая специально современность убирает: там нет Facebook, герои не едят суши…
А. П.: То же самое, что и с «Щеглом», да.
Е. Н.: На мой взгляд, у Янагихары мир несколько искусственный, нет ткани жизни. Моя любимая часть «Щегла» — та, где они живут в Лас-Вегасе, in the middle of nowhere, outside of Las Vegas. Это потрясающе: герои едят там все время эти заветренные куриные крылышки, которые приносит с работы подруга его отца. Читаешь и чувствуешь вкус этих холодных крылышек в барбекю-соусе. Там очень хорошо воссоздан мир заброшенных детей без свежей еды и заботы. А у Янагихары воссозданы страдания. Она вообще все выжигает этим — но это существует, и это может существовать. Я не то чтобы против этого или за это. Почему-то писатели иногда выбирают такой путь.
А. П.: Я могу только спекулировать на тему, почему она так сделала. Просто, если ты помнишь, — ты читала первый роман «Люди среди деревьев»?
Е. Н.: Нет.
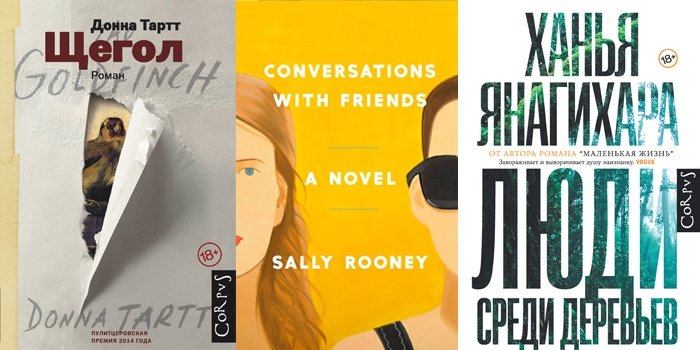
А. П.: Это роман, четко привязанный к очень многим штукам. За основу взята жизнь антрополога Гайдузека. И, знаешь, вот она попыталась пройтись по тому, что такое great American novel, что он должен быть и про социальность, и про историю, и про постколониальную политику, и там все это есть, и все это довольно скучно с точки зрения читателя, хотя и впечатляет. Она сама потом в интервью говорила, что ее дебютный роман — это книга, которую сложно полюбить.
Е. Н.: Я недавно написала статью про Салли Руни. Когда я стала читать Conversation with friends, у меня был абсолютный шок — я закрывала-открывала книгу, и я не могла поверить, что это происходит. Там нет ничего особенного: просто текст начинается с того, что героиня идет тусоваться со своей бывшей девушкой, знакомится с молодой женщиной, она приводит их к себе домой, там её муж, они пьют вино, а потом героиня и её подруга расходятся по своим домам и гуглят этих новых знакомых. Я подумала, я тоже так живу, тоже иногда прихожу и гуглю. Эти муж и жена — немного известны: парень актер, а девушка — эссеистка и фотограф. Меня это совершенно поразило: я подумала, почему об этом никто не писал? Про этот типичный хипстерский ритуал. И это удивительно. Кроме того, это просто хорошая литература, классно написанная. Она это сделала так легко и просто, без какой-то спекуляции, без насильственного внедрения современности.
А. П.: И, собственно, в название вынесена уже эта пресловутая современность: это буквально про их переписку. Когда ей нечем заняться, она по ключевым словам ищет свою переписку с подругой. И этим тоже люди занимаются… Так вот — еще про Гибсона. Многие здесь читают по-английски. Я просто пытался найти сегодня русский перевод — он точно был, но, его удалили, возможно. Если вы вобьете в Google (опять же — современность) «New Yorker Гибсон интервью», вам выскочит последнее интервью декабря 2019 года или января 2020-го. Суть в том, что еще в апреле 2017 года должен был выйти его одиннадцатый или двенадцатый (в зависимости от того, считаем ли мы «Машину различий») роман Agency, и все его ждали. Потом наступает 23 апреля 2017 года, все фанаты Гибсона заходят на Amazon и видят, что выход перенесли на 31 декабря 2017 года. Переносы на каждые полгода продолжались до 2020-го, и вот он наконец-то вышел — в январе. И один журналист пишет, что где-то в апреле 2017-го он написал Гибсону с просьбой об интервью насчет его нового романа. Он ответил: вы знаете, я перенес выход, тут Трамп выиграл, и у меня посыпался роман полностью, потому что я не ожидал, что Трамп выиграет, мне придется очень многое переделывать. Они договорились: давайте когда следующий срок релиза. Доходит до следующего, журналист ему опять пишет, на что тот отвечает: знаете, теперь Трамп поссорился с Северной Кореей, и нам как бы грозит ядерный кризис, Сирия, все остальное, мне опять придется все переписывать. Проходит следующий срок. Следующее письмо Гибсона выглядит так: новости про Cambridge Analytica, которая помогла Трампу выиграть, опять все испортили, мне придется опять переписывать мой роман. И это продолжалось четыре раза. Наконец-то вышел роман, и на этом я хотел закончить свое вступление про Гибсона: вот так выглядит сегодня попытка написать о современности. Когда в 1980-х Гибсон писал о технологиях, будущее было неким абстрактным горизонтом событий, до которого ты, может быть, не доживешь, — а теперь (в этом большом хорошем интервью в The New Yorker это проговаривается) будущего как бы нет, горизонт событий — завтра.
Е. Н.: Это происходит из-за того, что сейчас все гораздо быстрее меняется?
А. П.: Да. То есть вчера мы с тобой договаривались, сегодня я открываю новости, а там — госпереворот фактически у нас в стране.
Е. Н.: А я поменяла как раз статью про Салли Руни. То дело «Сети», то несчастная Конституция — и каждый день заходишь и добавляешь что-нибудь.
А. П.: У меня абсолютно такая же ситуация была, когда я заканчивал «Центр тяжести». Оно сбывалось все сразу, и я ужасно нервничал, потому что срок долгий — когда ты закончил роман в 2017-м, и полтора года ты ждешь и смотришь за тем, как это сбывается, и устаревает сейчас.
Е. Н.: Да, и не знаешь, о чем писать и как. Ладно мы — Сорокин, наверное, не понимает, что писать, как работать с этой абсурдной реальностью. Все что он описал — сбылось. Пелевин, может быть, тоже не знает.
Из аудитории: У Сорокина есть сборник эссе, где примерно то, о чем ты сказала: он считает, что романы — какая-то застарелая чепуха.
А. П.: Есть писатели, которым нужно писать только романы — среди них тот же Франзен, например. Когда начинаешь читать его эссеистику — это самый душный дед вообще из возможных. Я был страшно разочарован, не читайте мемуары Франзена.
Е. Н.: Франзен, кстати, хороший пример человека, который пишет о современности, и при этом с горизонтом все нормально.
А. П.: Нет, тоже не нормально. Можем подискутировать на эту тему. Опять же, «Поправки» — это роман, изданный за неделю до 11 сентября. Повезло: потому что если бы было 11 сентября, он бы, может, отозвал его и начал переписывать. «Свобода», в общем, тоже не очень привязана. Когда ты видишь в «Свободе» аллюзии на «Войну и мир» (он знал, к кому подцепляться) — это очень круто и очень мне нравится, но как только он там начинает учить студентку, как жить, и рассказывает про соцсети — ты такой: «Вау, кто вообще деда впустил в здание?». И думаешь, вот, наверное, потому что он классик, ему позволили — так бы редактор ему сказал: «Мужик, это The New Yorker bullshit, не надо».
Е. Н.: Давай вернемся: мы пытаемся понять, как писать о современности в условиях того, что горизонт уже завтра. И я хочу немножко передвинуться в Россию. Как это делать? Я вот чувствую, что проза — не тот жанр, в котором можно писать что-то социальное и актуальное сейчас. Именно поэтому я написала в прошлом году в Коломне поэму «Музей московского мусора». Я поняла, что рассказ здесь не нужен — проза не подходит. Мне пришлось уйти в чужое поле поэзии, потому что безумно тяжело работать с современностью.
А. П.: Поэтому сейчас она действительно вступает в некий странный симбиоз с нон-фикшеном. Потому что, когда ты пишешь что-то современное, ты неизбежно заходишь на территорию какого-то ресерча, который тебе необходим, чтобы встроиться в современный контекст. Мне кажется, как раз главная проблема не в том, что о современности сложно писать, а в том, что у каждого молодого автора есть дополнительный блок насчет современности. Потому что это порицаемо на читательском уровне.
Е. Н.: Ты имеешь в виду, что если у тебя увидят упоминание Facebook?..
А. П.: Не только это. Я могу привести конкретный пример. «Раунд» Анны Немзер — суперсовременный роман: капсула времени 2016 года, спасение гомосексуалов из Чечни — это как раз тогда было, про это роман, — хип-хоп баттлы, и все это связывается с 1937 годом, с советским прошлым и тому подобное. Я открываю рецензии и вижу: «ну вот, так хорошо про любовь она пишет… Опять вот эта „Новая газета“ — ну что это? Открываю ее биографию — ну „Дождь“, все понятно». И то же самое абсолютно — когда ты открываешь Дмитрия Захарова: абсолютно тот же в общем нарратив идет — читатели в рецензиях обязательно пишут: понятно, из «Коммерсанта», что он еще может написать.
Е. Н.: Скажу странную вещь. Если вы помните, в 1990-е и 2000-е годы все или многие читали российские детективы. И я читала несколько романов Донцовой, и было удивительно, что там можно было столкнуться не только с этой самой «актуалочкой», но еще и с повседневностью. И меня совершенно поразило: я читала какой-то текст Донцовой, когда очередная детективщица там что-то расследует, и она находит девочку — подростка или молодую женщину — свидетельницу преступления, и та ей рассказывает, что ее родители погибли при взрыве в маршрутке. И у меня случился шок от этой встречи с реальностью в ироническом детективе, я с тех пор нигде не читала в прозе упоминания о подобных событиях, которые происходили на самом деле. Не встречала литературы, неважно серьёзной или жанровой, где упоминалось об этом, хотя бы вскользь. Может быть такие тексты просто не доходили до меня. Но поразительно, что эта несерьезная литература, касалась таких тем, она не боялась их.
А. П.: То, к чему ты подводишь, я тоже хотел как раз проговорить. Писательство, в принципе, само по себе требует бесстрашия перед темой. Опять же, это разлито в воздухе. Я, по-моему, рассказывал тебе, может быть, я в подкасте даже проговаривал: я читал лекцию про Беслан и «Норд-Ост» и то, что они не отражены никак в культуре. Буквально во время КРЯККа между рядами к сцене бежала тетка — с химией, ну как мы себе представляем советскую буфетчицу — и просто орала: «Зачем вы это рассказываете?! Мы тут книжки покупаем, все радуемся, всем хорошо, вон там дети играют, а вы здесь такие кошмары рассказываете». Ее стали выводить, она продолжала что-то кричать, ее вывели — но это было настолько «мета-». На самом деле это же воспроизводится везде: это не то чтобы женщина, «ушибленная» телевизором, — наверное, это откуда-то идет. Когда ты открываешь текст Саши Сулим про «Норд-Ост» — он начинается с описания сцены (это тоже, видимо, признак таланта журналистки, которая уловила именно этот момент и с него начала — она дальше эту тему не продолжает, но эта сцена самая характерная в тексте), когда актеры, родственники и друзья погибших актеров пришли к «Норд-Осту» в годовщину и стали петь песни из «Норд-Оста», выбежал охранник и начал кричать: «Зачем вы поете?! Чему вы радуетесь? „Норд-Ост“ — это горе людское!» — и начал их разгонять. И это происходит, примеров таких легион.
Е. Н.: То есть в обществе нет даже диалога…

А. П.: Запроса нет. То есть запрос есть у узкой прослойки читателей, может быть, но у нас это не норма. Это же вопрос нормы и нормализации тоже. Для того чтобы нормализовать разговор о современности, должна быть критическая масса текстов. И те, кто пишет сейчас, сталкиваются, в первую очередь, с некой неприязнью текста даже у тех людей, которым текст понравился. Вышла «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина — абсолютно тоже роман про современность. Там действие происходит, по-моему, в 2019 году буквально — и он про мусорные свалки. Критик Василий Владимирский написал рецензию, которую заканчивает фразой: «Нет, все-таки „актуалочке“ место только в Facebook, не надо это в литературу тянуть…» — вот еще важный момент в этом противостоянии актуальной литературе. Оно заключается в том, что люди апеллируют именно к тому, что мы и так наелись современностью. Потому что это и так здесь, зачем нам это показывать? Мне кажется, есть большая разница между постом в Facebook, написанном за пять минут без приложения к этому душевных сил — просто выплеск эмоций, — и текстом, над которым ты работал два года. Есть же разница между просто криком боли и рефлексией? Пост в Facebook — это крик боли, он никак не проартикулирован.
Из аудитории: У меня есть другого толка рассуждение на эту тему. Возможно, мы недостаточно эмоционально и психологически взрослые, потому что ты описываешь охранника и женщину, которая бежит, и я в них чувствую совершенно не тех людей, которые наелись современности, а тех, которые боятся с детьми обсудить эти проблемы. Потому что современность — это то, что болит прямо сейчас, и я не помню, такого не было, чтобы я с родителями обсудил какие-то личные темы: общение с девушками или секс — нет.
Е. Н.: И не только личные. С нами никто не обсуждал войну в Чечне (я была ребенком), Беслан (я была подростком). Я представляю, что в Америке, в Англии или где-то еще пришел психолог, провел бы занятие — чтобы не было стресса, чтобы дети не боялись…
Из аудитории: Интересно, что у меня папа воевал в Афганистане, но при этом я лет до двадцати абсолютно не воспринимала это как страшное событие, потому что он только рассказывал какие-то анекдоты из этой жизни.
Все вместе: Защитная реакция!
Е. Н.: По-моему, в твоей книге эссе упоминалось то, что страшные события у нас начинают фиксироваться в литературе, только когда меняется режим. И то не сразу. Распался Советский Союз, и лишь лет двадцать спустя — бум литературы о советском времени и мало текстов о современности.
А. П.: Это воспроизводство психологической травмы в стиле «не выноси сор из избы», «не высовывайся» и тому подобное. Есть межпоколенческий разлом, который начинает проявляться сейчас.
Е. Н.: Я его ощущаю даже на уровне критики. Чем старше люди, тем чаще обвиняют меня в чернухе. А мои ровесники, чуть младше, чуть старше, понимают, что это жизнь. Без вопросов вроде: «Это же страшно, зачем ты об этом пишешь»?
А. П.: Кто-нибудь читал книгу Ольги Алленовой «Форпост. Беслан и его заложники»? Очень советую вам, вышла в прошлом году. Это буквально воспроизводство событий, того, что произошло в Беслане, документальный роман, своеобразный сборник статей: где, почему, кто, что происходило, как шел суд, почему матери Беслана разделились — все это там есть. Поскольку меня и Ольгу Алленову выпускало одно издательство, редактор попросил меня с ней поговорить, для промо книжки, и задать несколько вопросов. Я пришел к ней и стал подводить к теме, которую мы сейчас обсуждаем, как вам пришло в голову написать и все такое. Она мне ответила, что вообще не собиралась писать, все и так все знают.
Е. Н.: А на самом деле, никто ничего не знает.
А. П.: Вот это когнитивное искажение, которое у нас распространено по всей стране.
Е. Н.: К слову, лучшая статья, которая была написана на эту тему, написана американцем.
А. П.: Кристофер Чиверс?
Е. Н.: Да, почитайте. Она, кстати, переведена.
А. П.: Можно еще почитать, как он эти данные собирал. Есть книжка Джона Гидука, которая написана в 2006 году. Этот человек пытался написать книжку о Беслане со стороны наших. Я забыл, как назывался отряд ОМОНа, который там воевал, но Джон пытался отдать им дань, потому что он сам военный. Первая глава начинается с того, что он туда приехал как представитель некой охранной организации, его туда послали. Самой большой проблемой было просто хотя бы узнать что-то. Все забито ФСБшниками, люди напуганы — и никто не хотел говорить об этом. Он приехал потом, через какое-то время — абсолютно то же самое. Невозможно собирать информацию, зачищается сразу поле. Люди, для которых написание книг о трагедии — это норма, приходят туда, а там все выжжено просто, ничего нет. Ольга Алленова пятнадцать лет была уверена в том, что книга о Беслане не нужна, потому что есть же статьи в газетах. Как она мне призналась, ее просто уговорил главный редактор сделать из статей книгу.
Из аудитории: Я хотел подытожить, что это не какой-то сознательный заговор старперов, а некий психологический барьер. Когда у меня двенадцать лет назад была тяжелая депрессия, я приходил домой, просто черный, ложился к стене и говорил, что живот болит. Родители догадывались, что у меня не все в порядке, что, возможно, их сын хочет покончить с собой. Но говорили просто: «Да съешь таблеточку, будет все нормально». Просто наши родители по-другому не могут.
Е. Н.: Да, нет навыков коммуникации, даже с родными людьми. Я чувствую эту разницу — и это ужасно. А насчет актуальности хочу сказать еще, что все двухтысячные годы и десятые частично, в интеллектуальной среде царил «Театр.doc». И их Новая драма. Они открыли огромное количество прекрасных молодых драматургов по всей России, очень много сделали для развития маленьких независимых театров. Это такое очень важное явление для нашей культуры. И они занимались и занимаются тем, что ставят документальные спектакли о реальных событиях, в том числе страшных. У них есть спектакль про Беслан, про матерей Беслана. Ещё они много занимались просто повседневностью, обычной, но сложной жизнью, и их тоже все время спрашивали, зачем они все это показывают, «я это каждый день дома вижу или на улице — все это я видела, мы и так этого наелись». Сейчас они стали очень экспериментальными, как и многие театры, менее документальными. И сейчас происходит некоторый сдвиг. Теми вещами, которыми занимался раньше только «Театр.doc», Новая драма в целом, и много занимается русская поэзия, сейчас начинает, наконец-то, заниматься проза. Спустя двадцать лет с тех пор, как появился «Театр.doc».
А. П.: Потому что поколенческий разлом. Пришли те, для кого это не табу.
Е. Н.: Да, наверное.
А. П.: И про «Театр.doc» я тебе могу рассказать не очень веселую вещь, которая, мне кажется, является большой проблемой нашей культуры. Это проблема архивации и распространения. Попробуй найди хоть одну запись театра.
Е. Н.: Они есть, но их и правда не так много.
А. П.: Это проблема. Я недавно пытался найти пьесу Дмитрия Данилова «Человек из Подольска», ее нет даже у пиратов. Я не знаю где ее искать.
Е. Н.: Ты имеешь в виду снятую на видео?
А. П.: Хотя бы текст, что-нибудь.
Все вместе: В библиотеке есть! [имеется в виду онлайн-библиотека школы – прим. ред.]
Из аудитории: У них просто очень странные традиции. Надо к ним ехать и только у них смотреть.
А. П.: Вот в этом и проблема. «Театр.doc» — хорошо. Они занимались этим для пятидесяти человек раз в неделю, на сто сорокамиллионный контингент. А когда мне надо найти пьесу Мартина МакДоны, последнюю, я захожу на Amazon и в два клика получаю её себе на Kindle. Если мне нужно найти пьесу Дмитрия Данилова, то мне нужно обзванивать библиотеки.
Е. Н.: Дмитрию Данилову можешь, кстати, попробовать написать в Facebook.
А. П.: Я был страшно фрустрирован этим недавно, потому что это было просто невероятно — нигде нет!
Из аудитории: Забыл еще про Беслан. Во-первых, мне кажется, интерес всегда был, и он поддерживался, в том числе, и в оппозиционной среде. В соцсетях постоянно упоминали, писали. Отчасти из публицистических соображений, что власть не сделала всего необходимого и так далее. И наоборот, подчеркивалось, что замалчивалось в государственных СМИ, что Беслан вообще был. Во-вторых, у меня возникло ощущение, что про некоторые политические темы стало тяжело писать потому, что в прозе или драме эти события преобразуются и становятся для участников событий неактуальными и совершенно вторичными, по сравнению с их личным опытом.
А. П.: Я сначала отвечу на второй вопрос. Писательство требует некоего бесстрашия. Если ты боишься очень быстро устареть, ты никогда просто ничего не напишешь. А насчет первого вопроса… То, что люди постоянно об этом упоминают, — это белый шум, ничего не значит, просто становится ритуалом, когда раз в год говорят «вот по Беслану то…».
Е. Н.: Да, это удивительно, что фильмы появились только в этом году, а уже столько лет прошло.
А. П.: Да. И одно дело, когда ты раз в год пишешь в Facebook и репостишь статью из Meduz'ы. Совсем другое, когда появляется книга. Это действительно большая разница даже не в охвате, книгу тоже не много людей прочитает. Но книга — это такой культурный объект, артефакт, который требует от тебя некоего прилежания и нахождения в тишине…
Е. Н.: Работы.
А. П.: Работы, совершенно верно, внутренней работы. И человек, который написал книгу, выходит к тебе с открытым забралом и достаточно долго с тобой говорит. Ты не можешь забыть это слишком быстро. Я до сих пор помню некоторые эпизоды из книги Ольги Алленовой. А белый шум в Facebook… Он будет всегда. И он всегда будет забываться послезавтра. До того, как вышел фильм Дудя о Беслане, я наблюдал несколько лет за тем, как люди каждое первое-третье сентября репостят ту статью из Esquire, ее перевод.

Из аудитории: У меня такой вопрос. Чем тогда писатель отличается от активиста? То есть, писатель — это всегда активист, он должен задевать какие-то болевые точки, говорить о них, брать какие-то яркие сюжеты, в том числе и из журналистики. Так всегда было? Так и должно быть? Почему мы выбираем именно такое направление?
А. П.: Мы выбираем такое направление, потому что пишем о том, что у нас болит. Ты не пишешь о Беслане, если в тебе лично он не вызывает никаких эмоций, если для тебя это просто репост каждый год — в этом разница. Если у тебя болит, если у тебя «что-то не так», ты пытаешься это «что-то не так» проговорить. Я уверен, что Анна Немзер, если бы она здесь была, очень много рассказала про тему спасения бедных людей, которых пытали в Чечне. И она об этом написала не потому, что это была актуалочка и горячая тема, она написала об этом потому, что она туда ездила и ей было больно на это смотреть. Это было неприятно. В некотором роде это аутопсихотерапия. Когда ты пишешь книжку, ты разговариваешь сам с собой. Хотя это проговаривание чаще не срабатывает, конечно. Пол Остер в одном из интервью сказал, что когда он писал мемуары, то надеялся, что это позволит ему справиться со смертью отца. Когда он писал, ему казалось, что это помогает. Но когда дописал, оказалось, что не очень. И это точно так же работает с любой трагедией, которая случилась в твоей стране и сильно срезонировала. Я когда читаю про Ивана Голунова, меня до сих пор всего корежит от того, что произошло. И я надеюсь, что кто-то захочет про это написать, допустим, даже не конкретно про это дело. И это будет человек, у которого это вызывает страшное негодование, который не может молчать.
Из аудитории: Я читала книгу «Форпост» Ольги Алленовой, мне не кажется что она существенно отличается от той статьи в Esquire. Я читала ее, когда еще училась в школе, и на меня это произвело довольно сильное впечатление. Это был первый довольно большой текст, который я прочитала на такую тему. А книга «Форпост» — это, по сути, несколько переработанный, но не суперотрефлексированный материал. Она пишет о своей боли, потому что она там была, она делала репортажи. Но для меня это не прям какое усилие переработать все свои тексты и совместить их в одну книгу. Это дает глубокое понимание того, что там произошло, ты запоминаешь много вещей, но в плане работы с широким контекстом, мне, например, это не очень помогло. Мне, наверное, не нравится обесценивание короткой формы и не нравится нон-фикшен, основанный на отдельных журналистских статьях. Мне не кажется, что это хорошая форма.
А. П.: Вот это тоже наша проблема. Мы все время ждем от всех opus magnum. Средних книг нам не надо! Сразу дайте мне «Войну и мир»!
Е. Н.: Да, в среде американских писателей тоже все время спрашивают: «Кто напишет следующий великий американский роман»? И у нас тоже: «Кто напишет следующую «Войну и мир»?
А. П.: Мне кажется, что таких книг, как «Форпост» Ольги Алленовой, должно быть десять-двадцать, в норме, чтобы было из чего выбирать. Мы получили одну деталь паззла. Таких деталей должно быть больше.
Е. Н.: Эта книга будет основой для тех, кто, наконец, возьмется написать художественный текст.
А. П.: Абсолютно! Потому что вообще ничего нет.
Е. Н.: А что мы знаем, например, о взрывах домов? Это был главный страх моего детства, родители ходили дежурить у подъезда.
А. П.: Взрывы гексогеновые, мой отец тоже дежурил.
Е. Н.: Это было очень страшно. Вот только недавно вышел материал о людях, которые пережили эти взрывы, и как они теперь живут. Больше никаких материалов нет.
А. П.: Ну вот, видишь, в чем проблема.
Е. Н.: Я, опять же, описания подобного ни в какой художественной литературе не встречала. А это же люди, они остались. А взрывы в метро? Даже малейшего упоминания не было, никаких текстов, как будто это происходило не с нами, как будто это нас не касалось, как будто мы сами не боялись.
А. П.: Мне кажется, мы живем в стране, где у нас в принципе происходит перегрузка наших эмпатических центров, мы уже просто не можем сочувствовать. Когда произошли взрывы в Петербурге, возможно, ты помнишь, первым обвинили человека, который просто выглядел как мусульманин. Его звали Андрей Никитин. Единственная причина, по которой его объявили в розыск, — он просто был с бородой и в черном. И здесь тоже есть проблема архивирования, сохранения этих событий. Я точно помню, что журналист Роман Супер поехал к Никитину и провел с ним день. И Никитин рассказывал о том, что вся его жизнь посыпалась после того, как его обвинили. И мы об этом тоже ничего не знаем. Ничего совершенно нет, кроме этого интервью, которое я смутно помню и не смогу нагуглить достаточно быстро. Я не помню, как оно называется. Еще есть история, возможно, кто-то из вас помнит, но, скорее всего, все забыли. Кому-нибудь говорит что-нибудь имя Игоря Губанова? Это человек, который протестовал против произвола полицейских. Дело было так. У них с женой была ссора, они были пьяные, соседи вызвали полицию, полиция забрала его жену и изнасиловала. Жена написала заявление в полицию, полиция ничего не сделала — над ними посмеялись. Игорь Губанов собрал журналистов и сообщил, что каждую неделю будет отрезать себе по одному пальцу, пока не случится что-нибудь. В США об этом уже бы сняли фильм. В России мы об этом уже не помним. А Игорь Губанов умер от инсульта. Четыре пальца он себе успел отрезать. И это страшно. Страшно еще и потому, что это не проработано.
Е. Н.: Просто когда такое происходит, нам кажется: все, сейчас предел пройден, больше ничего такого не будет. Но тут происходит что-то еще…
А. П.: Мозг больше не может справляться с количеством хтони, он просто быстренько сбивается.
Из аудитории: Насчет количества хтони. Это не вопрос, а размышление. Я хорошо себя помню лет до двадцати пяти, совершенно не интересующимся ничем. Я принципиально не читал новости.
А. П.: А вам сколько сейчас?
Из аудитории: Мне тридцать четыре. То есть, это было за гранью моей жизни. У меня был довольно широкий круг друзей, мы делали интересные вещи и никто друг с другом не обсуждал политику. «У, ну и треш, ты что, читаешь новости?» Речь шла про людей, которые против чего-то протестовали и ходили на митинги, какие-то коммуняги, которые в очередной раз отмечали день рождения Сталина. Где та грань между тем, что действительно происходит и волнует лично тебя как, условно, вечные вопросы и вечные травмы, и где журналистская повестка дня? Потому что людей всегда убивали, всегда происходила какая-то дичь, а тут вдруг ты повзрослел и тебя начинает это волновать.
А. П.: Интуиция, авторская интуиция. Потому что я помню Игоря Губанова, уже очень долго его помню. Я пока не знаю, что буду с этим делать, но отрубание пальцев каждую неделю в знак протеста, которое не сработало, — этого я никогда не забуду. И каждый раз, когда я об этом говорю, мне страшно. Как и от истории человека, которому порушили жизнь просто потому, что он был с бородой и в черном. Это я тоже очень хорошо помню и помнить буду еще долго.
Е. Н.: Ты, действительно, не можешь этого развидеть. Ты постоянно об этом думаешь. Кто-то из вас читал Полину Барскову? Она из Петербурга, но живет в Америке. Всю жизнь она занимается блокадой, все время про нее пишет. Прочитайте, если не читали, «Живые картины». Я понимаю, почему Полина Барскова пишет об этом — она из Петербурга. Но вот вопрос, могу ли я, например, я, человек, который никаким образом не связан лично или через знакомых, родственников, друзей с Бесланом, могу ли я писать о Беслане? Имею ли я на это право? Помните историю с книгой American Dirt? Кто не знает, напомню: писательница немексиканского происхождения, американка, написала роман о том, как женщина с сыном бежит, преследуемая картелем из Мексики в США, на «Ла Бестия» — такой поезд, на котором мигранты едут через границу и потом еще переходят пустыню. Это роман, который расхвалили, распиарили. А потом начался скандал именно из-за того, что писательница не мексиканка. И что есть очень хорошие романы, написанные на эту же тему мексиканскими авторами, даже на английском. Но они не так известны.
А. П.: У меня ответ всегда один. Конечно, можешь. Тебе влетит за это, но ты можешь и, наверное, должна, если у тебя это болит. Я знаю эту историю, и там есть даже замечательные отзывы на Goodreads, которые сначала «Пять звезд! Какая потрясающая, невероятная история!», а потом апдейт: «Одна звезда. Оказывается, это не ее автобиография». Но если это написано хорошо, это вообще снимает для меня все вопросы. Это вообще главное требование к любому тексту. О том же. Я закончил книжку про секты, и я никогда в тоталитарных культах не был, но у меня эта тема всегда болела, потому что они нас окружали все время. Естественно, ты проводишь огромное количество ресерча и читаешь и про Джима Джонса, и про Чарльза Мэнсона, и оттуда дергаешь и апроприируешь все, что тебе нужно для текста. Естественно, за это может влететь. Но если ты боишься этого, то ты никогда ничего не напишешь.
Е. Н.: Ты даже не боишься, что тебе влетит. Я говорю о моральном авторском праве. Я все время думаю, могу ли я писать, например, о жизни матери-одиночки, если у меня нет детей и я не знаю, что такое материнство?
А. П.: Ты можешь облажаться, но можешь написать. Почему нет.
Eпомянутые в наших публикациях книги можно приобрести с доставкой в независимых магазинах (ищите ближайший к вам на карте) или заказать на сайтах издательств, поддержав тем самым переживающий сейчас трудный момент книжный бизнес.
Иллюстрация на обложке: Ahra Kwon

войдите или зарегистрируйтесь