Преодоление защитной реакции: Евгения Некрасова и Алексей Поляринов о том, как писать о современности. Часть 2
В прошлом году был открыт первый набор на курс актуального письма и литературного менеджмента «Современные литературные практики», кураторами которого стали писательница Евгения Некрасова, поэтесса Оксана Васякина, продюсер Татьяна Новоселова, социолог литературы Евгения Вежлян и филолог Алеся Атрощенко. Цель курса — способствовать созданию нового поколения авторов, которые смогут рассказать о современности и о частном или коллективном опыте оригинальным и адекватным реальности языком. До 15 апреля идет прием заявок на второй поток, который будет проходить онлайн. На одном из занятий был организован разговор писателей Евгении Некрасовой и Алексея Поляринова — о стремительно устаревающем будущем, фейковой актуальности и языке, на котором можно писать о современности. Публикуем его продолжение.

Евгения Некрасова, писательница

Алексей Поляринов, писатель
Евгения Некрасова: Марина задала интересный вопрос: «Должен ли писатель быть активистом?» Мне кажется, что писатель всегда активист, потому что, если мы вспомним великую русскую литературу, у всех этих писателей было огромное чувство вины, потому что они жили хорошо или относительно хорошо, а вокруг девяносто процентов населения были рабами. И у некоторых писателей — усадьбы и крепостные. Это чувство вины, чувство несправедливости и породило активизм через творчество. Литература — одна из разновидностей активизма.
Алексей Поляринов: Лорри Мур не переведена на русский, но, если кто-то читает по-английски, я советую ее вам почитать. Она как раз гениальна тем, что описывает абсолютно бытовые вещи, но в них так много всего. Она пишет маленькие рассказики. Birds of America и Bark — два самых известных сборника. В своем эссе она как раз говорит о том, что главный вопрос, который ей задают на презентациях, на выступлениях — про автобиографичность, про «пиши о том, что знаешь», потому что во всех ее рассказах героиня — женщина примерно ее возраста, ее образования и, естественно, все путают героиню с ней. На что она отвечает, мне кажется, хорошей аналогией. Лорри Мур, как любой американский писатель первого, второго рядов, преподает creative writing. Она рассказывает, что у нее был слепой студент, который ни одного рассказа в жизни не писал про слепоту. Но при этом все зрячие герои в его рассказах спотыкались на ступеньках, обжигались о стаканы, ударялись о косяки — оно все равно пролезало. Он этого избегал, но оно все равно там оказывалось. Это и есть тот момент проговаривания личной боли, которая проявляется в тексте, хочешь ты того или нет.
Мы сейчас говорим про актуальность не в смысле «ну-ка все сейчас сели писать про Беслан» — понятно, что это сможет сделать только человек, у которого много лет это из головы не выходит, и он ресерчит и покупает все возможные книги. А когда мы говорим о том, чтобы писать о чем-то, что происходит сейчас, мы говорим о частном случае Салли Руни, у которой не было задачи написать современный роман. Это человек из семьи марксистов среднего класса, получившая хорошее образование, но при этом она не пишет ту прозу, которую ты ожидаешь от такого человека. Это вопрос таланта. Человек преодолевает свою классовость, хотя пытается постоянно о классовости писать.
Е. Н.: Но там по-другому складывается эта классовость. Салли Руни сто́ит отдельного разговора. Это женская проза в хорошем смысле. Я буквально неделю назад ходила на телеканал «Культура», где мне сказали, что мы будем обсуждать гендерный аспект в искусстве. Я пришла, оказалось, что мы просто обсуждаем, что такое феминизм и зачем он нам нужен. Это было очень странно. Все гости из разных поколений, но говорили мы на одном языке только с Монгайт, потому что все остальные произносили то, что я не слышала уже очень много лет, и отчего отвыкла: «Женщина должна быть красивой», «У России особый путь». Когда я говорю эти фразы отдельно от этих людей, они звучат ужасно. Но при этом это все прекрасные люди, талантливые, некоторые из них создали какие-то грандиозные вещи. И я ощущаю, что это происходит не только с нами, в России, но и во всем мире. Вот эта пропасть. Но у нас нет общего языка, на котором мы можем разговаривать обо всех этих вещах. Поэтому и нет литературы. Поэтому мы сделали эту школу, чтобы найти его.
Я хотела тебя спросить вот о чем. Чаще всего твои прекрасные эссе — про белых цисгендерных мужчин. Я давно уже изучаю писателей-женщин, в том числе то, что пишут эмигранты, дети эмигрантов, авторы из black-комьюнити в разных англоязычных странах. Тебя это как-то заботит? Литература, написанная женщинами? Кто-то из современных знаменитых писателей стал составлять список, чтобы прочитывать равное количество женщин-авторов и мужчин-авторов. Это он, по-моему, написал «Сочувствующего»…
А. П.: Вьет Тхань Нгуен.
Е. Н.: Да. Видишь ли ты разницу между прозой, написанной женщинами и прозой, написанной мужчинами? Почему так случилось, что почти все книги, которые ты читал и про которые ты рассказываешь, написаны мужчинами?
А. П.: Я об этом слышал, когда вышла книжка. В каком-то Telegram-канале человек просто даже посчитал количество, и действительно, в большинстве случаев это оказались белые цисгендерные мужчины.
Е. Н.: Притом на самом деле, если вы читаете современную русскоязычную прозу, написанную тридцатилетними, сорокалетними, пятидесятилетними мужчинами, это чаще всего очень определенная проза. Притом не важно, либералы это или почвенники написали. Это гипермаскулинная проза, и чаще всего она сочетается с тем, что они ходят по городу, иногда пьют, и главное, не знают, что делать со своей жизнью, не знают, чем заняться, хотя у них там жена, пятеро детей, но это все неважно, потому что он — Чайльд Гарольд, Евгений Онегин, и не знает, куда приткнуться. И там, конечно, нет такой общегуманистической, профеминисткой оптики. А у тебя в романе она как бы вшита… Возвращаясь к разговору на телеканале «Культура», я думаю, что ты бы со мной говорил на одном языке. У тебя нет вот этого «Блин, я не знаю, чем заняться, пойду выпью…»
Реплика из аудитории: Ты это про «Петровых» сейчас?..
Е. Н.: Я это про все! «Петровы» — это хороший вариант. Они классно написаны. И «Петровы» находят что-то, к чему-то выходят…
Почему сейчас произошел такой прорыв, на мой взгляд, женской прозы? Потому что всем уже надоело. Потому то почти каждый текст, который пишет мужчина, содержит в себе сцену про то, что они сидят и выпивают. А «Центр тяжести» — это чуть ли не один из первых текстов, где нет ни огурца с водкой, ни нытья, а есть абсолютно осознанное рассуждение, например, о том, как человек бесконечно волнуется о своем сыне — опыт отцовства, а не «нафиг мне все это надо». Я вообще впервые в жизни прочла о том, как человек работает над собой и в какой-то момент перестает постоянно быть в тревоге. Эмансипация пришла к нам благодаря Алексею Поляринову! По крайней мере, она пришла к нему. Есть писатели моложе тебя, но там этого нет. Для тебя это важно? Ты как-то рефлексируешь на эту тему?
А. П.: Да. Для меня это важно, потому что (и сейчас это может превратиться в сеанс психоанализа) мои родители развелись, когда я был ребенком, у меня были очень плохие отношения с отцом. Мы не разговариваем очень давно. Меня вырастили мать, тетя и бабушка. И я наблюдал за людьми, которые были для меня образцом, которые, в общем-то, за шкирку протащили меня через детство. Я был довольно любопытный ребенок — задавал маме какие-то вопросы, на которые она всегда терпеливо отвечала.
Е. Н.: Что отражено частично в «Центре тяжести». Кстати, еще поэтому мне кажется, и очень многим кажется, этот роман таким нерусским, иностранным, потому что родители и дети в нашей реальности так не общаются обычно.
А. П.: Притом что есть межпоколенческий разлом и в нашей семье, но он проходит между мамой и бабушкой, а не между мной и мамой. Я на эту тему пытался что-то написать. Если совсем кратко, то я спрашиваю у своей сестры Маши, которая с моей тетей Леной ездила к бабушке: «Как прошло?» Маша отвечает примерно следующее: «Ну сначала бабушка довела до слез меня, потом маму, а потом мы уехали». Это как раз тот человек, которого мы все безумно любим, но который невероятно простой и не хочет и не умеет слушать. Это человек, для которого возраст и авторитет — это небьющийся аргумент. Моя мать никогда не была такой. Она всегда со своей матерью воевала.
Е. Н.: А что насчет авторов-женщин?
А. П.: Поскольку я абсолютный самоучка (по образованию я инженер-гидротехник, меня учили строить плотины), у меня не было осознанного отбора. Это абсолютно случайный выбор. Это связка. Когда ты приходишь к Уоллесу, ты просто автоматически дальше идешь к Пинчону, ты автоматически дальше идешь Делилло. Это просто такая цепочка белых цисгендерных мужчин. Ты автоматически приходишь к Франзену, и точно также абсолютно случайно я наткнулся на Лорри Мур. Я не знаю, когда я на нее наткнулся, откуда про нее узнал. Сейчас это действительно более осознанно. Потому что, когда ты накапливаешь определенный опыт, в том числе опыт саморефлексии по поводу своего литературного бэкграунда, действительно замечаешь этот перекос, и тебя начинает интересовать постколониальная литература, литература, написанная людьми, которые находились под гнетом, потому что ты понимаешь, что она по-другому работает.
Е. Н.: Я слышала твою лекцию про глобальный роман и постколониальный роман, про то, что практически никто не видит особой разницы. Что такое постколониальный роман все понимают? Объясним?
А. П.: Это феномен прежде всего британской литературы, потому что у нее было больше всего колоний. Когда она их все потеряла после войны, в литературу стали приходить люди в основном из Индии и Пакистана, у которых была возможность получить образование в Британии и Америке. Эти молодые люди вроде Рушди и ему подобных. Арундати Рой и Чимаманда Нгози Адичи, которая училась в Америке, и Новайолет Булавайо.
Е. Н.: Это люди, для которых язык империи, которая их колонизировала, становится родным, вторым — или даже первым.
А. П.: По сути, это люди с двумя душами.
Е. Н.: С двумя культурами.
А. П.: Они застряли между культурами и в своих книгах неизбежно к этой теме приходят, они не могут об этом не писать, даже если они пытаются писать что угодно — магический реализм, например. У них все равно получается история о человеке, который застрял в лимбе между колонией и угнетаемым меньшинством — вся эта литература вращается вокруг этого. Например, «Сочувствующий» Нгуена, это идеальный постколониальный роман
Е. Н.: И ещё «Бог мелочей», его почти все читали, это великий текст. Еще «Дети полуночи» и Satanic verses.
А. П.: Satanic verses считается тоже считается сферическим постколониальным романом в вакууме — там абсолютно все его маркеры.
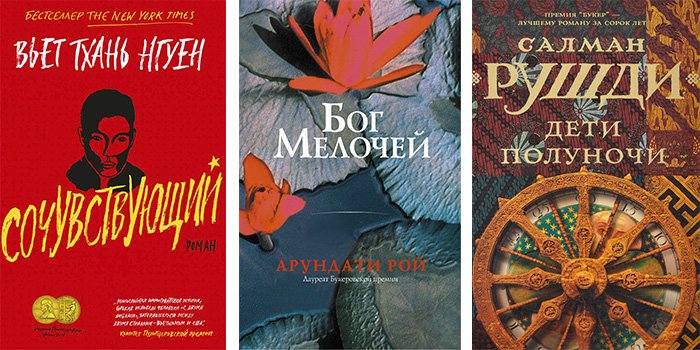
Е. Н.: У меня еще такой вопрос — можно ли написать глобальный роман, который работал бы везде и всегда, без межкультурного напряжения? Мне кажется, что роман Горалик такой. Это прекрасный, великий текст, это вообще текст, который мы не заслужили. Я все время представляю, что если бы такой текст вышел у менее известного писателя или дебютанта, то он бы не читался, не продавался, такой он другой.
Я хотела у тебя спросить — возможен ли в России пример постколониального романа? Потому что мы понимаем, что постсоветскую литературу можно рассматривать как постколониальную, но…
А. П.: Мне кажется, что весь Сорокин и Пелевин — это абсолютно постколониальная литература. Межкультурное напряжение между советской империей и Россией, которая после нее получилась.
Е. Н.: Хорошо, а если говорить про тех людей, которых мы колонизировали?
Из аудитории: У Медведева «Заххок» есть.
А. П.: Да, кстати, отличный роман, и написан хорошо. И даже люди из Таджикистана хвалят, что вообще-то уникальный случай, даже Рушди индусы ругают, а Медведева коренные таджики хвалят, он как бы стал их голосом, наверно.
Е. Н.: А что-то аналогичное «Богу мелочей», когда текст написан, например, человеком, который приехал из одной из постсоветских республик, который здесь живет, и который не может найти себя ни в новой культуре, ни еще не уходит из старой. Я не могу назвать какой-то реальной книги, кроме, может быть «Заххока».
Из аудитории: Рытхэу?
Е. Н.: Это чукотский писатель, который был отчасти европейским, потому что он знал английский. Почитай, я тебе скину, в «Нью-йоркере» или на Lithub американская поэтесса недавно написала про него статью. У него очень экологичные романы, он в тренде сейчас. Начиная с 90-х, он был наиболее известным на Западе, его сразу переводили на западные языки.
А. П.: А Григоренко «Мэбэт»?
Е. Н.: Да, кстати. А Осокин?
А. П.: Да, тоже постколониальный.
Е. Н.: Но Осокин живет на пересечении культур. И все его книжки представлены в такой авторской, артхаусной прозе. Это не мейнстрим.
А. П.: Наше отличие от западной литературы — мы действительно выглядим сейчас как провинция.
Е. Н.: Да, во всем, кроме театра, мы сейчас чудовищно провинциальны.
А. П.: И эта провинциальность проявляется в том, что где у американцев по десять романов на каждую тему, у нас есть одна Ольга Алленова, где-то там еще видна Анна Немзер, такой туман и пара деревьев там, где должен быть лес. Может, это когда-то изменится — я достаточно оптимистично настроен насчет межпоколенческого разлома, я рассчитываю на людей, выросших без идеологии, мы в кармашек прям попали.
Е. Н.: Я в последнее время начала понимать, насколько это важно. Когда мы смеемся над этими лозунгами, потому что нас в 90-е учили, что это все несерьезно.
А. П.: Я люблю рассказывать историю про свою школу — у меня был ОБЖ-шник, который заставлял нас ходить строем, разбирать автомат Калашникова, и так далее. Но он считался у нас в школе абсолютно сумасшедшим, это не было нормой. А сейчас наоборот. Сейчас учителя кидают в чатик варианты военной формы для детей, поэтому мы в таком мире перевернутом живем, я за следующее поколение уже беспокоюсь.
Из аудитории: У меня есть маленький вопрос, который я хочу задать уже давно. Хорошо, вот есть боль и есть, предположим, способность написать книгу. Откуда взять ресурсы и время, чтобы писать эту книгу?
А. П.: В этом смысле есть гениальное интервью Марлона Джеймса, который написал «Краткую историю семи убийств», еще один идеальный постколониальный роман про то, как ЦРУ дебоширят на Ямайке, колонизаторы пришли, а «дикари» (в кавычках, естественно) недовольны и ведут себя не очень цивилизованно, потому что каждый раз, когда империя навязывает колонии свою «цивилизацию», получается насилие.
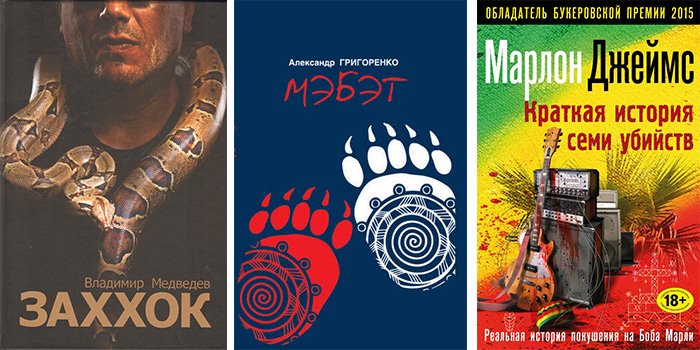
Е. Н.: Быстрый вопрос — тебе не кажется, что мы такие умные, пришли со своим бэкграундом, со своими феминистскими эмансипированными взглядами, со своей новой этикой — мы приходим в наши семьи, или к женщинам, которых ты упоминаешь, или к своим читателям — и мы их также пытаемся колонизировать?
А. П.: Здесь важно, что мы меньшинство, мы не истеблишмент. Когда нас поглотит эта культура и она станет превалирующей, тогда мы станем колонизаторами.
Из аудитории: А кто поглощает? Меньшинство или большинство?
А. П.: Поглощает всегда большинство.
Из аудитории: Побеждает всегда непримиримое меньшинство. Когда оно не идет на компромиссы и не откатывает назад, а продолжает.
А. П.: Оно побеждает в короткой перспективе, а в длинной — культура все равно его поглощает и делает частью нарратива истеблишмента, опошляет, как случилось с битниками, с людьми, которые в 60-х отреклись от консюмеризма. Бунт битников уже давно стал частью поп-культуры. в 60-х это был чистый бунт, а потом прошло двадцать-тридцать-сорок лет — и все хипстеры, вся молодежь высших и средних слоев теперь читает «Дорогу», уходит от родителей, и при этом это уже совсем не то, что было в 60-е, битники полностью апроприированы, они стали иконами, о них снимают кино, где этих бывших отшельников и бунтарей играют красивые голливудские актеры. Это иронично. Поэтому когда мы приходим со своим феминистским взглядом к домостроевцам, то домостроевцы — это как раз и есть колониальная политика Советского Союза, осколки которой до нас еще долетают из прошлого, потому что их невероятно много, это раз. И два — не будем забывать, что государство этот домостроевский нарратив поддерживает и поощряет, вот в чем беда. Лет через десять, возможно, культура сделает очередной круг и действительно, повестка, о которой мы сейчас говорим, будет уже не контркультурой; но сейчас мы — контркультура. Контркультура всегда становится культурой.
Е. Н.: Вернемся к интервью Марлона Джеймса.
А. П.: Он довольно агрессивный парень, и не лезет в карман за словом. Он рассказывал, что когда кто-то ему говорит: «вот если бы у меня было свободное время, я он написал роман», то Джеймс понимает, что перед ним — ненастоящий писатель, потому что у настоящего писателя не возникает такого вопроса; ну то есть если и возникает, он довольно быстро находит решение. Я могу переврать, когда цитирую, но он говорит что-то в духе того, что «я никогда не слышал от певца или художника: если бы у меня было больше времени, я бы пел, или если бы у меня было больше времени, я бы рисовал». Если человек любит петь, то он всегда найдет для этого время. И если человек любит танцевать, он танцует — я сегодня ехал в метро, там человек танцевал. Мне очень понравилось. То есть человек тренировался там, это выглядело как репетиция. Точно так же у меня — я последние девять лет занимался аквариумами, у меня было очень мало свободного времени, я писал в тетрадке везде, где мог. Потому что это то, чем ты разгружаешь себя от обычных вещей и проговариваешь то, что для тебя важно. Нет времени — ну, не знаю.
Из аудитории: Вопрос был скорее про нон-фикшен. Если бы я задался целью писать про Ямайку, я бы не мог поехать на Ямайку и жить там. Ведь нужно время на какой-то ресерч.
Е. Н.: На мой взгляд, к роману нужно подойти как к проекту. Это то, чему мы здесь вас частично учим, даже то, что мы делаем с антологиями сейчас в школе.
А. П.: Это буквально проект и есть.
Е. Н.: Рассчитывать свой бюджет, специально выделять время, уходить с работы и рассчитывать два месяца между работами. Денис Осокин брал больничный, как я сейчас помню, чтобы написать текст «Ангелы и революцию», за который он получил премию «Дебют». Ты все время рассчитываешь время и деньги. Тони Моррисон вставала в четыре утра, в пять и писала, до того, как проснуться дети, до того, как пойти на работу.
А. П.: Сорокин по утрам пишет. Вопрос писательства — это всегда вопрос личной дисциплины. Писателем становится всегда только очень дисциплинированный человек, который может очень хорошо уживаться со своими ритуалами. Условно, час в день на это можно выделить всегда — это ведь вопрос выбора и дисциплины исключительно.
Е. Н.: И еще это вопрос эмоциональной энергии, которой нам очень часто не хватает, потому что мы по-разному живем. У каждого своя тактика.
А. П.: Есть же «Мартин Иден» Джека Лондона, где очень подробно описаны все ритуалы писателя.
Е. Н.: Давай вернемся к теме о том, как писать тексты про современность — что нам нужно? Давай прям рецепт — понимаю, что это чудовищно, но вот все-таки — темы, которые нас всех волнуют. Это может быть история, которая случилась на самом деле?
А. П.: Ну да.
Е. Н.: Вот как эта ужасная история про Игоря Губанова…
А. П.: Сложность работы с актуальным материалом в том, что действительно большого таланта требует поиск правильной интонации, чтобы это не звучало как пересказ статьи с «Медиазоны», или не выглядело как чернуха. «Бесы» Достоевского, по сути, был «Роман-газета». Но при этом у него был свой твист-проворот, он всегда оставался Достоевским, он в любом случае писал из какого-то своего желания поговорить про новое поколение, которое пришло — и оно в ярости, и эта ярость выливается в насилие. Идея в том, что ты не просто находишь что-то в газете. Кстати, если вы хотите что-то узнать про актуальность и не читали Дона Делилло, он переведен — «Белый шум» про постмодернизм, 1980-е, телек и тому подобное, «Падающий человек» про 11 сентября. Это буквально человек, который находил свои сюжеты в газетах. У него есть роман «Мао II» про писателя-затворника, где параллельно развивается сюжет о том, как ислам и массовое мышление нас атакуют, — он предсказал это еще в 1991 году. Делилло сказал, что идея романа пришла к нему, когда он просто взял газету и увидел Сэлинджера, снятого впервые за много лет. Он говорит: «Вот тут у меня прям щелкнуло, я посмотрел на эту фотографию и представил себе — этот писатель, почему он так ведет себя?» И он начал раскручивать этот момент. Вот еще, кстати — ты читаешь что-то в условной газете, и ты цепляешься за какую-то важную деталь. Я помню, что у меня был сдвиг, и я начал вторую часть своего романа, когда читал интервью какого-то молодого чувака, который сделал find-face — систему распознавания лиц. Ему задали вопрос — а вас не беспокоит, что это могут использовать в каких-то неэтичных целях, например, порнозвезд травят, и используют для слежки за оппозицией. И он ответил тогда, я до сих пор помню — «да нет, это прикольно». И меня торкнуло, я стал искать, чтобы сравнить, интервью авторов из Кремниевой долины, авторов стартапов — и увидел межкультурный разлом: ни один из наших современных инженеров, наследников советской школы, не озабочен последствиями, им интересен только результат. При этом, когда ты читаешь условного Илона Маска — неважно, лицемерие это или нет, это проговаривается. В интервью с авторами каких-то важных стартапов — искусственный интеллект, что угодно, один из важных вопросов, которые они обсуждают с интервьюером — как нам это боком вылетит в итоге, что будет с этим, как это может аукнуться. И для меня это стало важным триггером, я увидел эту разницу, что у нас невозможна Кремниевая долина.
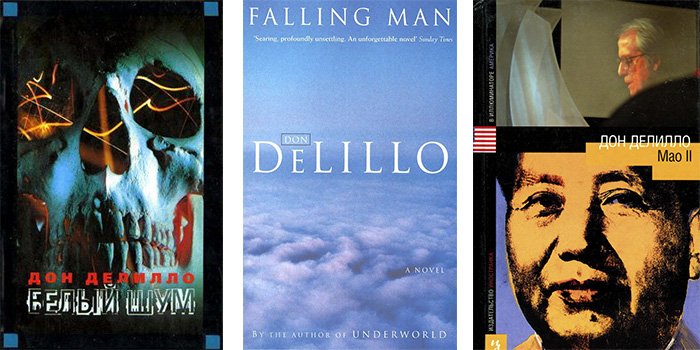
Е. Н.: Это еще знаешь почему интересно: есть уже сейчас общее мнение, все об этом говорят — что для нас не существует будущего; в России не существует будущего. Америка уже живет в нем, она все время думает: мы сейчас на Луну полетим, на Марс, а потом еще куда-то. Это как наши родители в детстве просыпались от ужаса, что НАТО напало на Советский Союз, потому что такая была пропаганда. Западные дети просыпаются сейчас от того, что происходит какая-то катастрофа из-за глобального потепления, в Англии, в Америке — вот такая тревожность из-за осознания будущего. Это довольно интересно. А у нас вроде как нет этого осознания. Я совершенно не могу вспомнить русскоязычную прозу о будущем. Разговор о будущем в литературе — он вообще возможен у нас?
А. П.: Это упрощение, на самом деле. Кремниевая долина и все технологические стартапы построены на оптимизме, потому что если не будет оптимизма, ничего не будет работать, это их главное топливо. Кстати, кто у них: Илон Маск, Безос, Цукерберг пока нет, но я думаю, у него тоже в итоге что-нибудь такое случится, он свою космическую программу запустит. Это часть их нарратива, это должно воспроизводить само себя, потому что если все будут думать, что будущего нет, то у них котировки упадут просто. Они торгуют будущим.
Е. Н.: Я все пытаюсь вернуться в Россию… Ладно, я поняла, что с будущим плохо. Итак, мы выбрали эту тему, она, возможно актуальная, возможно, реалистичная, главное, должна быть интенция об этом написать. Понятно, что кто угодно мог бы прочесть заметку о том, что молодая женщина бросилась под поезд и забыть об этом. Или написать любовный фельетон. А человек написал «Анну Каренину», которую мы периодически перечитываем.
А. П.: При этом иронично, что он написал ее ради денег, ему нужно было двадцать тысяч, он взял их в аванс за роман, а потом жаловался, что потратил уже все и теперь роман надо писать.
Е. Н.: Смотри, есть у нас тематика, есть автор и его интенция, что нам делать с языком? Читаешь текст — сейчас уже меньше, но все равно те тексты, которые публикуются, в том числе в уважаемых и известных издательствах, — и создается ощущение, что они пришли к нам в лучшем случае из начала нулевых. Я имею в виду тот язык, которым они написаны. Притом неважно, какого автор поколения. Второе. Я очень часто здесь задаю в школе читать англоязычные тексты. И я читаю по-английски, а многие студенты читают их по-русски, я читаю перевод, и с ужасом осознаю, что это не то, чтобы плохой, это просто другой текст. Он как будто весь, или половина его, состоит из штампов, при этом он может быть переведен достаточно бережно. У меня такое ощущение, что то, что является фактически шедевром, как «Кошатник», например, становится каким-то очень странным текстом, написанным в стиле блога: девочока рассказала о том, как другая девочка сходила на свидание. Я не знаю, как будут восприниматься в переводах тексты Салли Руни, я их еще не видела. У меня есть соображение, что дело не в переводчиках, они разные бывают, а может быть, в самом языке? Он что-то делает с этой конструкцией элегантного английского языка, который так просто и так емко может что-то объяснить. Что с этим делать? Как писать на русском о современности, о русских реалиях, чтобы это правда соответствовало 2020 году, потому что язык и создает этот главный зазор между реальностью и тем, что мы в итоге читаем.
А. П.: У нас действительно с этим сложность, потому что мы живем сейчас на территории «неустойчивого языка», и фактически у нас его не существует опять же потому, что мы тащим за собой длинный хвост империи, который нас очень тяготит. И когда у писателя возникает с этим проблема — любой автор, достигая определенного возраста (авторского, я имею в виду), сталкивается с проблемой, почему это звучит не так, как в моей голове, как я хотел бы, чтобы это звучало, и как мне уменьшить этот зазор между тем, что я хочу сказать, и тем, что говорю. Я здесь сжульничал, я просто полез к американцам и стал подсматривать у них, я фактически стал заниматься переводом, промышленным шпионажем.
Е. Н.: Это интересно, у нас есть два человека, кто пришел из англоязычной культуры, это Оля Брейнингер, и второй это Алексей Поляринов. Два человека, которые сформировались скорее под влиянием американской литературы, и это сказывается на языке и содержании. У Брейнингер на содержании, и это дает ощущение инаковости, что это какая-то другая, новая литература, хотя может быть, она никакая не другая и не новая для людей, которые знают контекст. Но все равно здесь это кажется новаторством по теме и содержанию. Но что делать нам с русским языком, чтобы можно было на нем писать прозу сейчас?
А. П.: Здесь очень много людей, которые читают по-английски. Для меня это был главный выход, который позволили мне выбраться из тесного загончика одноязычия, потому что я чувствовал, что не могу, у меня не получается писать, как я хочу, и это в частности было связано с языком. Ты что-то написал, а получается не то, чтобы даже вторично, оно не звучит, а ты знаешь, что должно. И какой-то определенный прорыв произошел именно тогда, когда я сделал первый свой, чудовищный, перевод Дэвида Митчелла. Потом пошло дальше. Этот момент остранения — когда я взглянул на родной язык как бы со стороны, позволил мне многое понять о языке вообще. Я люблю это сравнивать с промышленным шпионажем. В середине XIX века, до того, как появились пароходы, самые крутые корабли назывались клипперы. Они разгонялись до скорости в два раза выше любых других парусных судов и благодаря этому люди, у которых был клиппер, выигрывали, так как имели в два раза больше ходок. И те купцы, у которых клипперов не было, подсылали людей с рулетками, они бегали и измеряли. Потому что клиппер был гораздо длиннее и уже и при этом важна была пропорция, как с резонатором гитары, он должен быть определенного размера, иначе он не будет звучать. И примерно такая же штука произошла со мной, когда я начал переводить. Это был много открывающий опыт, потому что ты реально залезаешь внутрь чужого аппарата и видишь не фасад, а то, что с другой стороны, изнанку. И когда ты с другой стороны понимаешь, как связываются слова, тебя это тоже перепрограммирует, у тебя меняется прошивка. Сначала ты копируешь, подражаешь и получается еще хуже, а потом, за счет того, что ты работаешь каждый день, ты набиваешь руку, и у тебя что-то начинает получаться. Опять же про клипперы говорили, что это композитный корабль, потому что он сделан из нескольких кораблей, из нескольких материалов. И ты получаешь новую композитную свою прозу, потому что ты взял что-то русское, что только наполовину было прозой, и взял американское, чтобы оно у тебя как-то срослось вместе. В результате получилось такое чудовище Франкенштейна, которое зашевелилось.
Е. Н.: Я, к сожалению, сделала для себя такой вывод — я стараюсь читать русскоязычную прозу, но гораздо полезнее, когда я пытаюсь в год прочесть несколько англоязычных текстов: сборников рассказов, романов. Я беру лонг-лист «Букера», выбираю то, что мне интересно по описанию. Я погружаюсь в какие-то разные миры, возможности языка, не своего языка.
А. П.: Это главный совет.
Из аудитории: Есть вопрос про заявленную тему — фейковая актуальность.
А. П.: Я начал на него немного отвечать, когда цитировал Уоллеса. Конкретный пример: я открываю роман Виктора Пелевина «Священная книга оборотня», в котором героиня создает свой аккаунт на каком-то сайте знакомств, и автор очень подробно описывает, что туда нужно загрузить файл объемом не меньше двухсот килобайт — вот это устаревает довольно быстро. А фейковая актуальность относится скорее к вещам, которые не имеют значения на длинной дистанции.
Е. Н.: Но при этом это роман важный — тем, что он описал свое время. И все же, мы вот напишем сейчас что-то про актуальность, а она окажется фейковой.
А. П.: Мне кажется, Пелевин велик как раз когда он не упирает на актуальность.
Е. Н.: При этом он почти всегда упирает на актуальность.
А. П.: Но у него пропорции таланта перевешивают. Романы вроде «Любви к трем цукербринам» это фейковая актуальность абсолютно. Это как дед, который пересказывает тебе прошлогодние мемы. Чтобы получить какую-то вакцину от этого, нужно прочитать всего плохого Пелевина. Вообще Пелевина нужно прочесть всего, наверное. Но есть актуальность, которую он совершенно гениально отражал в «Омон Ра», «Чапаеве и пустоте» — хотя про него многие тоже говорят, что когда перечитывают, это уже не то. Я не перечитывал, не могу сказать. Есть «Generation P», который абсолютно капсула своего времени, но при этом талант вытягивает все. Ты видишь это время законсервированным.
Е. Н.: Но нас же не смущают все эти брички в «Мертвых душах».
А. П.: Это тоже интересный вопрос. Роман «Моби Дик» провалился, когда он вышел, потому что это был буквально роман про современность. Потому что охота на китов это все равно что сегодня подробнейшее описание того, как курьер Яндекс. Еды развозит «МакДак» с рассказом о том, из чего состоит биг-мак и делается картошка фри. Это было самое банальное, что могло быть. Но время отшелушило все это, и мы сейчас видим другие слои. Это роман, по сути, производственный.
Из аудитории: Я очень хочу писать про мусульманство, но я сама не росла в мусульманской семье и не прожила это опыт. Какие есть у вас советы?
А. П.: На Ямайку полететь это проблема, а походить в мечеть и поговорить с мусульманами легко. Говорите с людьми. Когда пишешь на актуальные темы, ты говоришь с людьми. Я знаю, что писатель это человек, который не любит разговаривать. У вас наверняка есть знакомые или знакомые знакомых, люди, которые по-разному к этому пришли, искренне верят. Вы можете с ними поговорить. Как раз этот разговор и проговаривание для человека с личным опытом это самое интересное. Сходить в мечеть, понаблюдать. На самом деле люди любят разговаривать и когда они узнают, что ты писатель.
Иллюстрация на обложке: Ahra Kwon

войдите или зарегистрируйтесь