Страшно от книг мне бывало только в детстве, притом в дошкольном (ну, мне тогда вообще от многого бывало страшно), позже, кажется, нет, — во всяком случае, не вспоминается. (Впрочем — сейчас вспомнила: где-то уже в школьные годы, в первой их, по-моему, половине, я заглянула в читавшийся кем-то из моих взрослых журнал «Иностранная литература» с романом Кэндзабуро Оэ «Объяли меня воды до души моей». Это был очень страшный текст, в конце которого герои погибали [я, собственно, помню теперь почти только это, — с тех пор не перечитывала, — да еще то, что дело происходило в закрытом помещении типа подземного бункера и что среди героев был слабоумный мальчик, — вот это было почему-то очень страшно], а особенно — его последняя фраза: «И за ним приходит та, что приходит за всеми людьми». Понятно было, о чем это, но особенно жутко было почему-то именно от того, что Она не названа прямо.)
В дошкольном же детстве жгуче-страшными были две книги, о, нет, даже три — только одна из них не совсем книга, а папка с репродукциями: жуткие на мой тогдашний взгляд большие репродукции Чюрлёниса — я не сомневалась, что «это про смерть». Одна из картин действительно называлась «Симфония похорон», но, по моему тогдашнему чувству, смерть там изображало все вообще (жуткий «Покой», темная гора с плачущими глазами, — разве это не Она? А страшная птица над младенцем, который тянется к одуванчику на вершине холма? — Это, конечно же, была Та, что залетела сюда из одной из самых жутких песен детства — «Темная ночь»: «Вот и сейчас / надо мною она / кру-жи-тся...»). Книги же вот какие: во-первых, «Маленький принц» Экзюпери — я была уверена, что Маленький принц в конце умер, его убила змея (сказавшая «Я разрешаю все загадки», и от этой фразы кровь стыла в жилах, — опять-таки, может быть, потому, что ничего не было названо прямо, — и понимание этого вытеснило все остальные чувства от книги). Самой же страшной была книга о ленинградской блокаде, которую я увидела на письменном столе у отчима в апреле 1972 года (мне шел седьмой год, читала я уже бойко). Это было так чудовищно, невыносимо страшно, как, наверное, ничто другое тогда. Мне впечатался в память ее внешний облик — он, собственно, меня тогда и привлек: книга была непохожа на обычные советские книги, потому что издана была эмигрантским издательством. У нее была голубая бумажная обложка, автора я запомнила как «К. Карстен», название — как «Блокада Ленинграда» (хотя тут не уверена), «издательство имени А. П. Чехова» (американское?), 1954 год. Я только заглянула туда — и страшно обожглась: там было что-то не вмещаемое сознанием, о людоедстве от голода, о трупах на улицах. Читать этого я не смогла; страшно хотелось, чтобы я этого не видела. Я долгое время боялась стола, на котором она лежала, проходила мимо него с внутренним замиранием, — пространство как бы сохраняло в себе ожог этого ужаса.





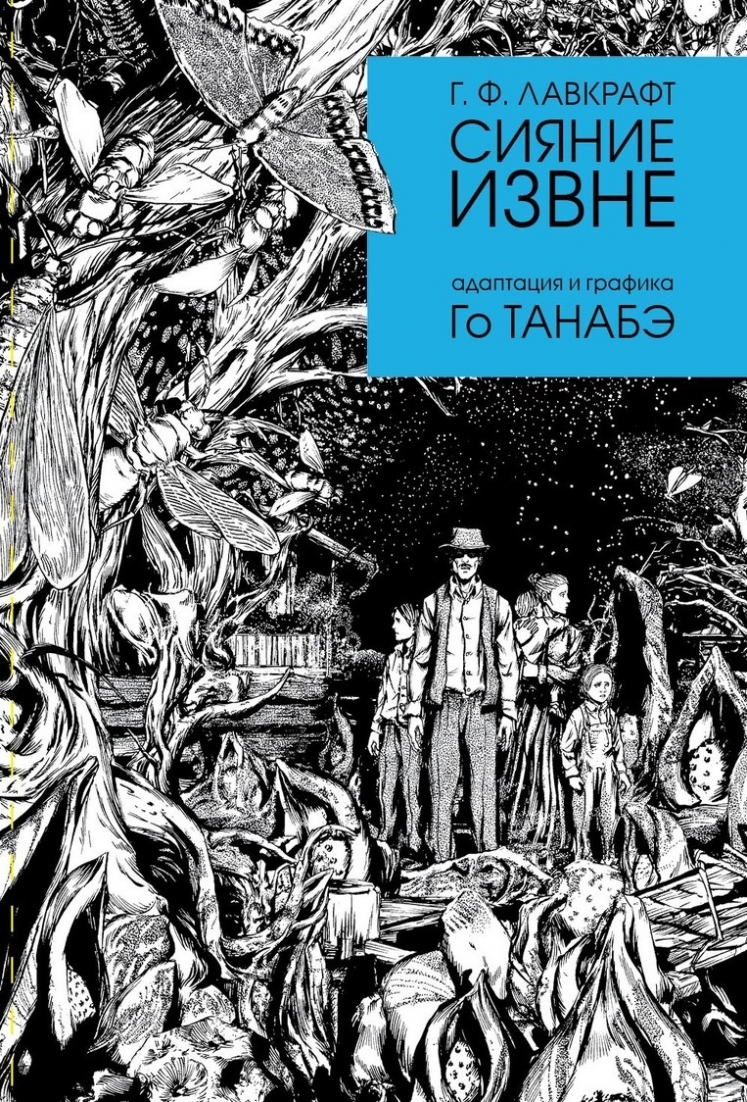
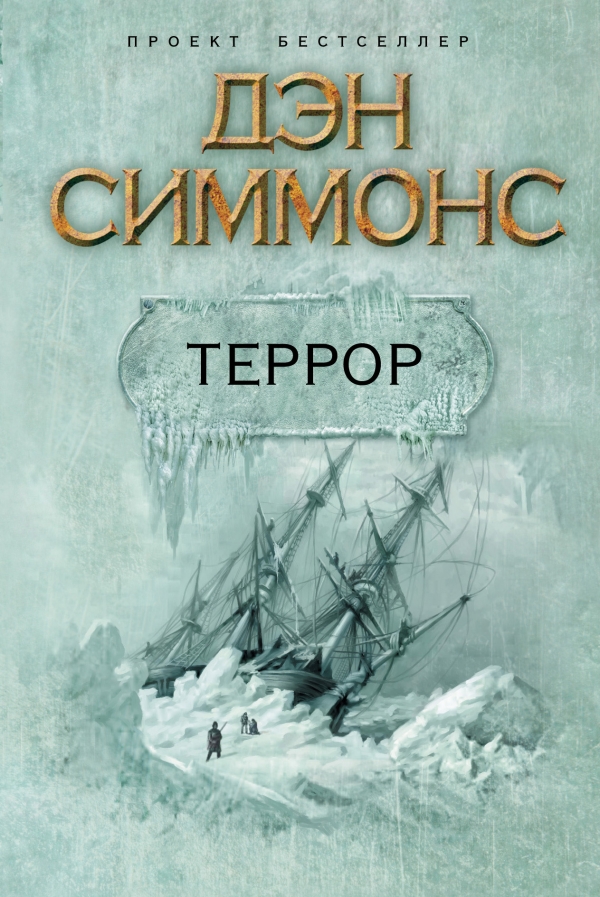






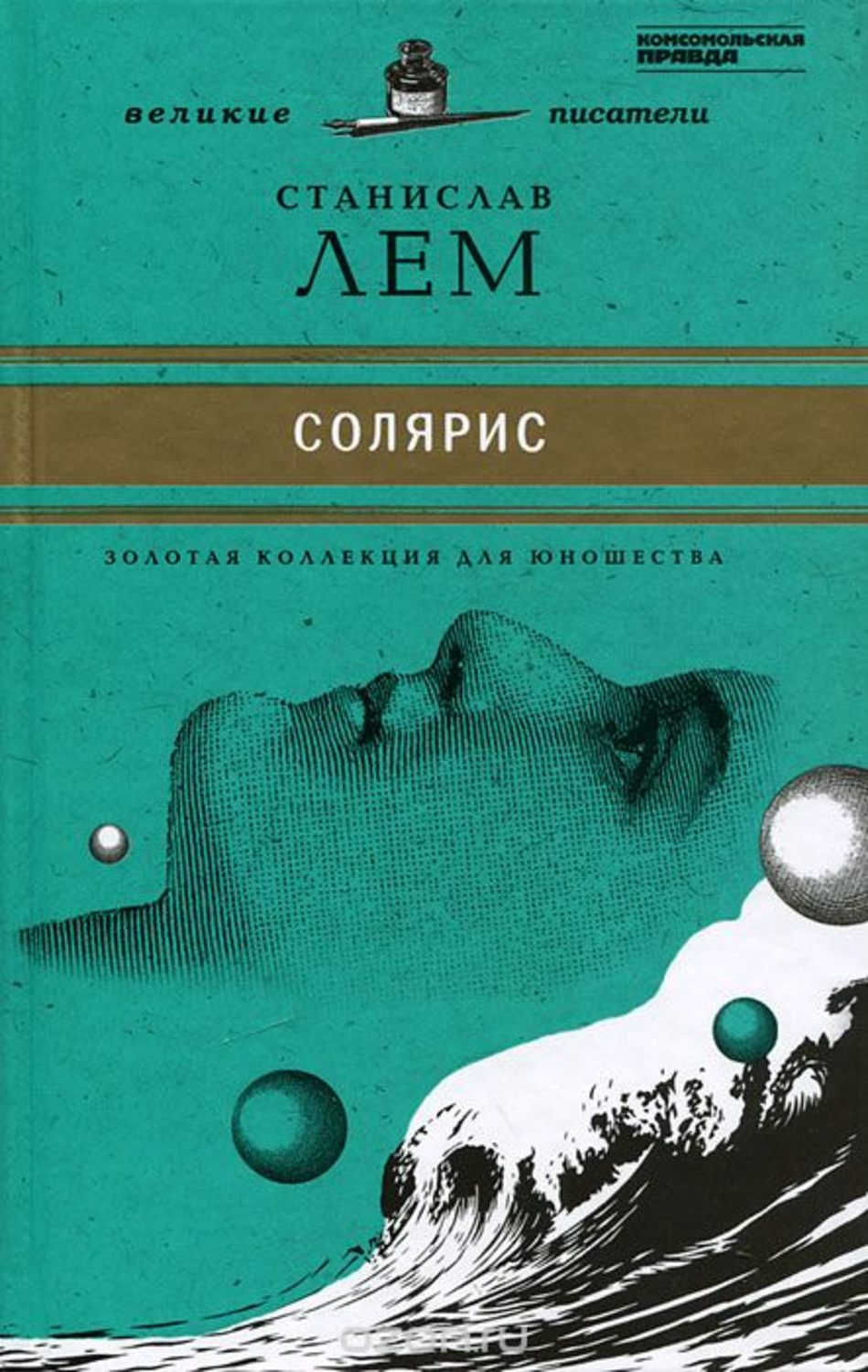




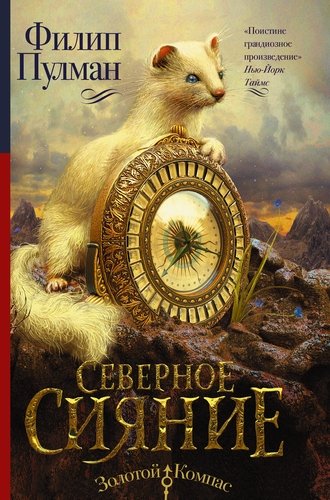
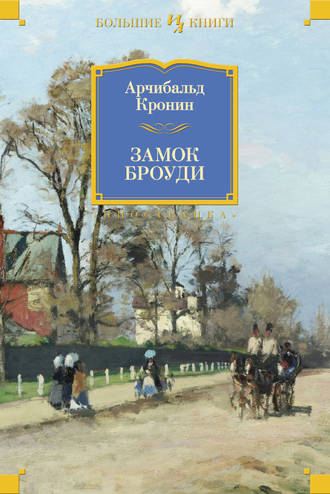
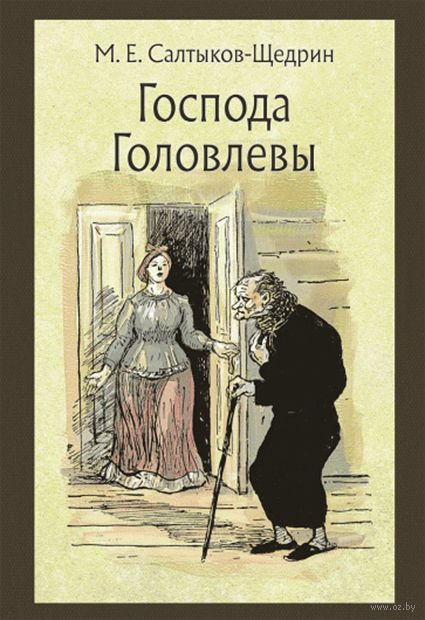



войдите или зарегистрируйтесь