1. А оно само как-то началось. С пяти лет писал какие-то фанфики — в таких больших тетрадях в клетку, еще и рисовал что-то. Помню точно фанфики по «Муми-троллям», «Гарри Поттеру» и, внезапно, «Чужому» (и да, там были кроссоверы).
Но я «ушел» в итоге не в литературу, а в историю, а потом поступил в Москву на юрфак, стало не до хобби. И только пять лет спустя окончательно понял, что это не то все. Тяга писать никуда не девалась, на каникулах я все пописывал какие-то черновики исторических рассказов, но безуспешно. Меня однозначно тянуло к художественным и публицистическим текстам, а не к праву.
Теперь писательство для меня — скорее жажда. Как у вампира жажда крови. Ты можешь спокойно жить, не написав за день ни строчки, но потом будет ОЧЕНЬ хреново, просто физически.
2. Дмитрий Быков как-то сказал: писательство — это шаманизм. И я с ним полностью согласен. Древние шаманы же были, вообще говоря, фриками, их чурались. Но когда приходила беда, шли к шаману, и он, призывая духов, заставлял людей верить, что мир может стать лучше.
Вот сейчас писатели — такие шаманы. Силой слова они дают людям понять себя еще немного больше, дают поверить, что своими силами они могут поменять этот мир.
А еще писатель выхватывает смыслы, которые витают в воздухе, и переводит их на язык прозы, как настоящий художник. И неважно, насколько эти смыслы глобальны — это всегда личная правда писателя, даже если это искренний рассказ о том, как он решил пожарить яичницу, а из яйца вдруг вылупился змееныш.
3. Давайте все-таки разделим два понятия: социальный запрос и личный запрос писателя. Оба они не должны сходиться. Если писатель хочет потрафить общественному мнению и написать что-то по актуальной повесточке, чтобы подняться на хайпе, у него ничего не выйдет. А вот если у него внутри нестерпимо болит, так, что ничего с этой болью сделать нельзя, кроме как извергнуть (да, это точное слово) ее на бумагу, то тогда текст получится искренним и честным. Дело не в актуальности, а в личной боли.
4. Современной литературу делает язык. Одна моя знакомая учится на журналиста, и у них в учебниках актуальной словесности есть упражнения, где встречаются всякие «юннаты», «дать прикурить» в значении «отметелить». Это же мертвый язык, а его подают как норму. В чем-то Гасан Гусейнов был прав: сейчас мы проживаем ситуацию двуязычия, когда мертвенький официальный язык не соприкасается с языком актуальным, языком ВК BOOM и условного ТикТока. И разрыв все больше. Хорошие ученые пытаются его ликвидировать, а писателям нужно показывать: вот он какой, язык улицы, вот что читают, слушают, наблюдают. Потому что в нашей стране современность, будем честны, в опасности, и нужно спасать хоть что-то. Язык нам спасти вполне по силам.
5. Такая точка зрения возникла в дореволюционной России на рубеже XIX и XX веков, когда русская философия разработана была плохо, да и политических мыслителей, в общем, было мало, вот и пришлось писателям брать на себя неблагодарную роль властителя дум.
Думаю, нам нужно принять смиренную позицию Толстого: колдовать свои колдунства, наблюдать и делать выводы, писать, призывать, может, помогать благотворительным организациям. Но лидерствовать — не наша доля. Когда шаман становился вождем племени, ничего хорошего из этого не выходило.
6. Я вижу основные трудности и в самих условиях работы (очень много отвлекающих факторов), и в вертикальных иерархиях, по которым до сих пор строятся литературные институции. Сейчас, с появлением все большего числа школ литературного мастерства и, соответственно, все большего числа компетентных редакторов, писателей и читателей, у нас появляются наконец явления, выстроенные горизонтально. Недавно выпускники Creative Writing School сами издали свой сборник рассказов, без помощи кураторов, например. И все же большая часть процесса — критика, издания, маркетинг — все еще строятся так, что начинающему автору очень трудно пробиться, а если пробьешься — не факт, что работу заметят. В условиях перепроизводства текстов, когда каждый день в издательство приходят тысячи рукописей, слишком важным фактором оказывается банальная удача.
7. Есть тексты, которые просят родиться, мне нужно их родить. Тут все довольно просто. А что с ними будет потом, тоже важно, но задачи продвижения текстов вторичны по отношению к самим текстам.
8. К литературе часто относятся, как к соревнованию. Но соревнования на самом деле никакого нет. Все мы плывем в одной большой яхтенной регате, в которой отличаемся только цветом парусов. И если читателю предложить два торта с кремовой начинкой, он не станет сравнивать, на каком цветочки красивее. Он скажет: «Охереть, два торта!»










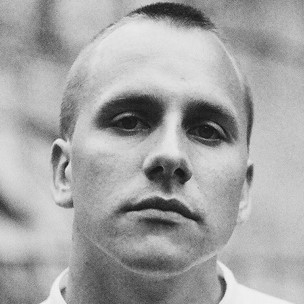

войдите или зарегистрируйтесь