А образование повлияло по части умения собирать информацию, общаться с людьми, перенимать их оптики, истории, функционировать в режиме наблюдателя, репортера жизни. Вот говорят: истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать. В этом плане журналистика наделяет тебя амплуа рассказчика. Рассказчику не бывает скучно: что бы с тобой ни происходило — очередь, поездка в метро, беседа с гаишником, многочасовое ожидание в аэропорту, — ты начинаешь наблюдать, и материал для очередной истории тут же выпрыгивает откуда ни возьмись. Другое дело — с каким набором инструментов к этому материалу подойти, частью какой волнующей тебя темы он станет — но это уже следующий вопрос.
— Случались ли у вас творческие кризисы? Как вы с ними справлялись?
— Случаются кризисы тайминга, когда слишком много дел, работы и событий заполняют все время, и для прозы сложно выкроить пространство. Мне не подходят форматы вроде тридцати минут в день: чтобы продуктивно поработать мне надо сесть за компьютер и знать, что у меня есть как минимум три часа, что я могу упасть в текст и не торопиться. Самое любимое, когда садишься, пишешь, забыв себя, думаешь, прошел часок, а потом оказывается, что их прошло восемь. Рецепт борьбы с нехваткой времени, который подходит лично мне, — четко поставленная задача. Когда писала роман, у меня был план по знакам на каждый месяц и план глав. Безусловно, он менялся по ходу работы, но четкие рамки помогли довести дело до конца.
— В каких жанрах вы планируете работать?
— Мне интереснее всего писать сюжетную прозу. Я хочу работать с рассказами, романами и повестями — это такой замечательный забытый многими жанр, который сегодня, на мой взгляд, возрождается. Еще пробую себя в автобиографической прозе, в так называемом автофикшене. Как раз этой осенью вышли два моих рассказа: «Ксения Петербуржская позвонит» в «Дружбе народов» и рассказ «Рехаб» в сборнике «Улица Некрасова».
— Вы активная участница литературных семинаров и школ писательского мастерства. Что вам это дает? Какой семинар запомнился больше всего?
— Чтобы подготовится к обсуждению на семинарах, приходится читать тексты других участников, много текстов. Так что, во-первых, семинары дают возможность увидеть, что пишут авторы твоего поколения и в каких направлениях они работают. Во-вторых, ты учишься анализировать, когда ищешь плюсы и минусы чужих текстов, размышляешь, какие задачи ставит перед собой автор и как эти задачи решаются. Как говорят: «Чтобы написать одну книгу, надо прочитать тысячу». В моей версии надо не только прочитать, но и проанализировать. В-третьих, знакомишься с участниками из других городов, которые потом, возможно, становятся друзьями.

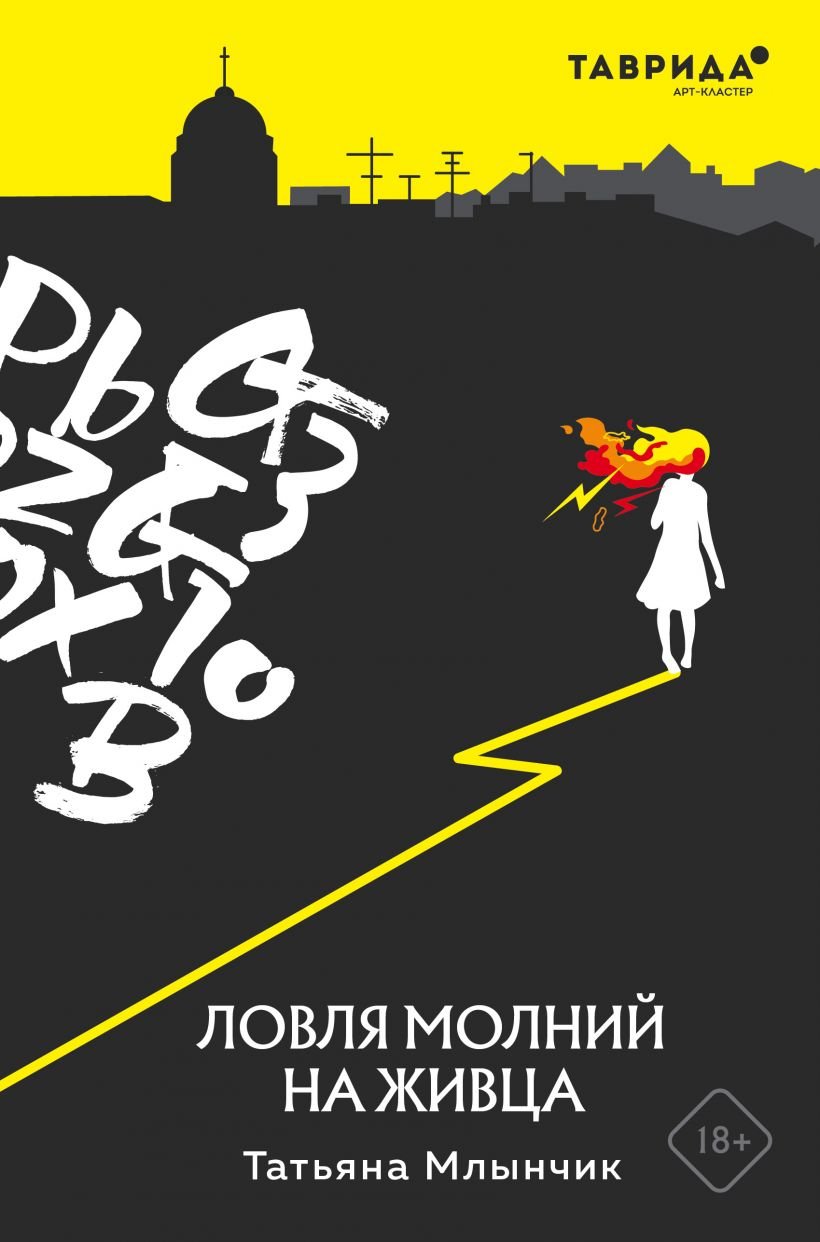
войдите или зарегистрируйтесь