— Телесность — одна из важных тем автофикшена, и у тебя она достигает предела за счет описания болезни. Это индивидуальная, единственно возможная для твоего текста рамка или дань жанру в том числе?
— В моем случае это был органичный способ реконструирования опыта и его преодоления. Честно признаться, в процессе письма я даже не думала «отдавать дань» жанру — скорее пыталась прийти к реэкзистенции и выстроить новый мир вне боли.
— Какие осознания принесло столкновение с болезнью?
— Это определенно был и есть экзистенциальный опыт, который побудил в целом задаться слишком серьезными для моего возраста вопросами о смысле жизни, семье, собственной идентичности, приоритетах. Важных инсайтов было несколько: один из них — понимание, что поэзия и письмо для меня — это пространство эмпатии и сопереживания. Слова не могут лишить боли, но помогают услышать другого и на долю секунды разделить его или ее ощущения.
— Притом что основной темой книги является боль, сам текст не вызывает ощущения открытой раны у читателя. Как тебе удалось этого достигнуть?
— Наверное, здесь мне помогло то, что я писала из позиции любви и благодарности — роду, семье, прошлому, болезни. Плюс время: со сломанной ногой невозможно о ней написать — нужно как минимум обезболить, чтобы слова пришли.
— Были ли у тебя какие-то ограничения в откровенности — та степень, которую ты могла себе позволить?
— Конечно, будучи существом социальным, я не могла не думать об ограничениях, наложенных временем, в котором мы живем. Плюс совру, если скажу, что не переживала о восприятии текста представителями культуры и диаспоры, хотя при всей осторожности письмо все равно случилось очень откровенным.
— Одна из важных тем романа — дом. Для героини изначально это понятие очень сложное, она не чувствует себя дома ни на родине, ни в России. В последние два года восприятие этого концепта обострилось еще сильнее. Есть ли у тебя какое-то место, где ты чувствуешь себя дома?
— Да, пожалуй, самый сложный вопрос для нас всех. Наверное, сейчас для меня дом — это место, где живут любимые.

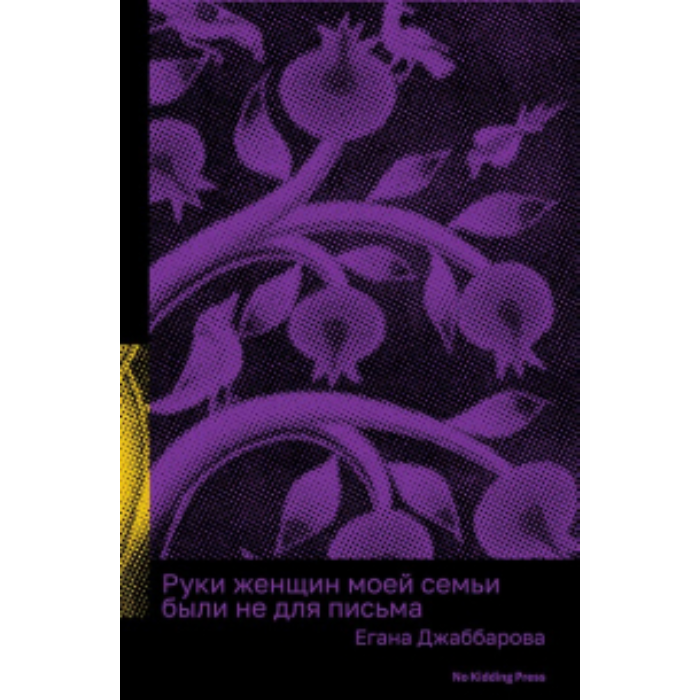
войдите или зарегистрируйтесь