Я бы разделил литературу на школьную и библиотечную. Школьную не помню совершенно: что мы читали, что писали, о чем говорили — все исчезло из памяти, потому что не было никакого вовлечения, ни сердце, ни ум в этом не участвовали, не помню ни-че-го. Изучение параграфа про мочеполовую систему на уроке биологии (если уж сравнивать) вызывало значительно больше интереса. Один раз я почувствовал слабый укол удивления: когда учительница литературы дала нам задание составить таблицы с описаниями героев «Войны и мира» (она прекрасно понимала, что заставить нас читать роман невозможно). Это было необычно, поэтому я удивился, а следовательно — запомнил.
Другое дело — библиотека. Мне страшно, невероятно повезло встретить личного книжного ангела — школьного библиотекаря Людмилу Евгеньевну Воронову (пишу вот ее имя, чтобы оно осталось в памяти чуть подольше). Она была гениальным библиотекарем. Она не очень любила детей и очень любила книги и тех, кто их написал. Без разницы, живые они или мертвые, в ее памяти все были рядом, все «под вишнями в цвету», как писал один японец, — и Гомер, и Чехов и Пелевин. Проводить мероприятия и развлекать танцами, как сегодня требует библиотечное начальство , она не умела и не хотела — и делала это крайне плохо.
Она умела слушать. Умела отвечать. Умела принять участие в тебе, постоять рядом с путаной, трудно себя осознающей подростковой жизнью. Она просто была рядом: наливала чай, давала книгу, пускала в фонды и делилась своими вырезками и подборками, которые кропотливо собирала в бумажные папочки. Все на свете: научно-популярные статьи о пользе йети в сельском хозяйстве, выдернутые из бумажных сборничков редкие ценные переводы западных фантастов, самиздатовские альбомы Гумилева и Ахматовой — и дальше без конца. Метафора библиотеки как сада расходящихся тропок лучше всего подходит — да, ты открывал эту белую облупившуюся дверь, не зная, в какие края тебя унесет в этот раз. Именно там я прочел не только Майн Рида с Буссенаром, и Конан Дойлем, и Дюма, но и Ефремова, и Казанцева, и Парнова, и Стругацких, и Погодина, и Гуревича, а потом и Штерна, Лукина, Дьяченко, и всех фантастов конца восьмидесятых, и, конечно, Крапивина. Там я встретил и мега-газету всего обозримого Универсума «Голос Вселенной» (кто знает — тот знает, как говорится). Там, бродя по фондам, куда вообще ученики и нос совать не должны, я добирался до ее личного шкафчика, где стояли Ницше, Цвейг, Майринк, а рядом Блаватская или Гурджиев. Поэтому, наверное, мне сейчас, уже в качестве учителя, так скучно на обычных уроках литературы: я привык говорить о книгах просто или молчать, если все понятно.



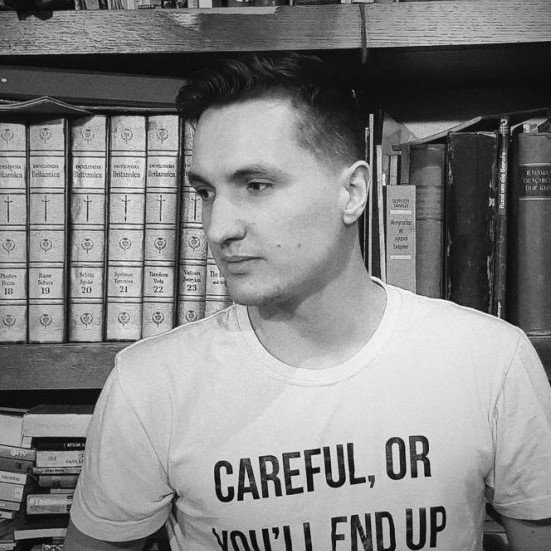






войдите или зарегистрируйтесь