О притягательности венгерской литературы
Лет пятнадцать назад я зашла в книжный, чтобы убить время между лекциями, и наугад сняла с полки тоненький томик Петера Эстерхази «Записки синего чулка и другие тексты». Окно из двух пар пролетело вмиг. Прочитав книжку, я ее купила — потому что определенно собиралась перечитывать. Так я открыла для себя венгерскую литературу, и входом в нее оказались эссе.
Случайно попавшийся мне сборник Эстерхази (1950–2016) включает его журнальные заметки по разным, актуальным и неактуальным, поводам. Это вроде бы публицистика («Вот как-то под Рождество у меня чуть быстрее, чем мне хотелось, стал худеть кошелек» — и пришлось написать в журнал, объясняет он), но в то же время и безошибочно эстерхазиевская литература — с той же болтливостью взахлеб, как в романах, с тем же весельем просто от того, что слова друг к другу прилаживаются, с теми же постулатами-парадоксами: великий поэт Петефи (1823–1849), живи он сейчас, должен, доказывает Эстерхази, быть воздушным гимнастом.
В этом нагромождении историй и бон мо меня покорило сочетание словесной разнузданности с остротой мысли, умение найти ситуацию, как бы иллюстрирующую серьезную философскую максиму (ну, мне так казалось — я по образованию философ) — или, иначе сказать, увидеть в текущем смысл, отсылающий к двухтысячелетней взаимосвязи европейского мышления, которую принято называть философией. Причем мысль у него — как понимаешь по второму прочтению — начинается с первой буквы и заканчивается последней.
С этими журнальными заметками Эстерхази в мой мир вошла литература, не противопоставленная и не враждебная не только мышлению и рефлексии в принципе, но и хорошо усвоившая традицию этого мышления, все время имеющая в виду уже случившееся в истории философии. Это было не «Идет паровоз. Спрашивается, отчего он движется?», как у Толстого, а изящно и остроумно, как только бывало в русской литературе у Пушкина да у некоторых авторов Серебряного века и их наследников-продолжателей.
Эссе для такой словесности — едва ли не самый естественный жанр, и их даже на русский переведено много. В «Трех квадратах» издана эссеистика Имре Кертеса (1929–2016) и Петера Надаша (р. 1942), есть на русском и поразительное, очень длинное эссе Надаша «Собственная смерть» (2001) — ясный, но в то же время загадочный трактат о конечности человеческой жизни, складывающийся из рассказа о перенесенном автором инфаркте. Есть сборник «Венгры и Европа», в котором главным текстом являются выдержки из книги воспоминаний Шандора Мараи «Земля, земля!». Есть разбросанные по журналам эссе философа Агнеш Хеллер (именно эссе, не статьи), переведены лирические, очень пронзительные в предчувствии гибели детские воспоминания поэта Миклоша Радноти. Есть даже целый сборник эссе о жизни гомосексуалов, написанный (для журналов) лингвистом и переводчиком Адамом Надашди.
Притягательность этой эссеистики я для себя объясняю просто: венгерские авторы анализируют опыт, схожий с российским и неведомый в таких масштабах и остроте современному Западу (запреты, несправедливость, подавление всего живого и потом лагеря, аресты, пытки), но исходят они при этом из устоев национальной культуры, сложившейся в радикально отличных от российских обстоятельствах, внутри монархии, где цензура была отменена уже при Иосифе II, а за прочие гражданские свободы воевали в 1848 г. Некоторые вещи, которые средний российский литератор почитает за идеал и роскошь, для венгерского писателя — отправная точка. Можно сказать, что в пространстве венгерской словесности знакомый нам опыт унижения личности и попрания здравого смысла сталкивается с так и не прижившейся в России европейской традицией принципиального неприятия всего этого. Что порождает прозу, опознающуюся из России как более или менее родную, но очень на нее не похожую.
Собственно, и то, что попадает в венгерской литературе в разряд художественной прозы, не лишено эссеистичности. Рассуждениями полны поздние вещи Тибора Дери (1894–1977), на них же строилась и венгерская межвоенная традиция социографии, ставившая своей задачей описание жизни разных слоев венгерского общества — главным образом, крестьянства. Даже рассказы декаденствующего Дюлы Круди (1878–1933), при всей их фантастичности, настолько зависимы от реалий и их последующей концептуализации, что, прочитав их, начинаешь верить, что в этой части мира люди после смерти действительно рутинно перерождаются в гребешки для волос. Но верно и обратное: Круди много писал в газеты, и его газетные заметки (к сожалению, не переведенные на русский) — скажем, репортаж о том, как премьер демократической Венгерской республики Михай Каройи раздает крестьянам свою землю, — читаются как чистый фикшен, выдумка, сон — и в этом есть какая-то высшая правда, потому что, увы, так оно в итоге и оказалось.
Поскольку стержнем, на котором держится венгерская проза XX века, всегда является мысль, даже вещи, обозначенные на обложке как роман, оставляют ощущение невыдуманности — правды, а не поэзии, если иметь в виду дихотомию Гете. Прочитав книжку Гезы Оттлика (1912–1990) «Училище на границе» о жизни курсантов военной школы, можно позабыть фамилии героев, клички палачей-преподавателей и суть конфликтов между ними, но нельзя забыть вынесенный оттуда опыт, который прямо со страниц перетекает тебе куда-то в горло, застревая там комом. Недаром условное продолжение этого романа, с теми же героями — «Буда», над которым автор работал до конца жизни, уже даже не пытается прикинуться сюжетной прозой, а превращается в какой-то феноменологический анализ опыта, становится почти неотличимым от философского трактата.
То же верно и для романов Имре Кертеса. Вроде бы простенькая книжка «Без судьбы», излагающая «приключения» мальчишки-подростка в нацистских лагерях, завершается тем, что главный герой разъясняет своим бывшим соседям, как все это стало возможным. Да очень просто: все, что там совершалось, совершалось «шаг за шагом», и каждый человек — и узник, и палач — делал свой маленький шаг навстречу катастрофе. От каждого из них зависело, делать этот шаг или не делать — как и от тех, кто провожал главного героя в лагерь смерти. «Вы тогда еще спорили, как мне лучше добраться в Освенцим, на трамвае или на автобусе», — подытоживает он. (И неважно, что они тогда думали, что спорят о том, как удобнее доставить мальчика на обязательные работы, выполнять которые, по их разумению, было все же безопаснее, чем уклоняться от них).
Эта простая, красивая и мучительная мысль о личной ответственности и недоступности общего смысла изнутри жизни поражает, выламывается из романа, но не разрушает, а завершает его. Но последующие произведения Кертеса, «Фиаско» и «Кадиш по нерожденному ребенку», продолжают осмыслять лагерный опыт, и тут уже автору приходится ломать все традиционные правила устройства повествования, чтобы это реальное, невыдуманное, этот нон-фикшен, уместить между двумя корками вроде бы художественной книжки.
Эссеистичность венгерской прозе сообщает и еще одна важнейшая ее черта — юмор. Смех, как и созерцание, извлекает смеющегося из потока жизни и повествования, заставляет еще раз посмотреть на все это «в общем виде», смех — это род изящной рефлексии. «Хороший немецкий писатель — не немецкий писатель», — говорил Петер Эстерхази. Самый серьезный текст — текст, как правило, очень смешной. Одну из важнейших книг о венгерских показательных процессах, тюрьмах и лагерях сталинского времени написал Дёрдь Фалуди (1910–2006). Она называется «Мои счастливые дни в аду» (1962). Ни над какой другой книжкой я столько не смеялась. Ну разве что над прозой Кертеса о Холокосте и документальным романом Петера Эстерхази о том, что его обожаемый отец, граф и алкоголик, был стукачом. Смех в этих книгах — выражение свободы.








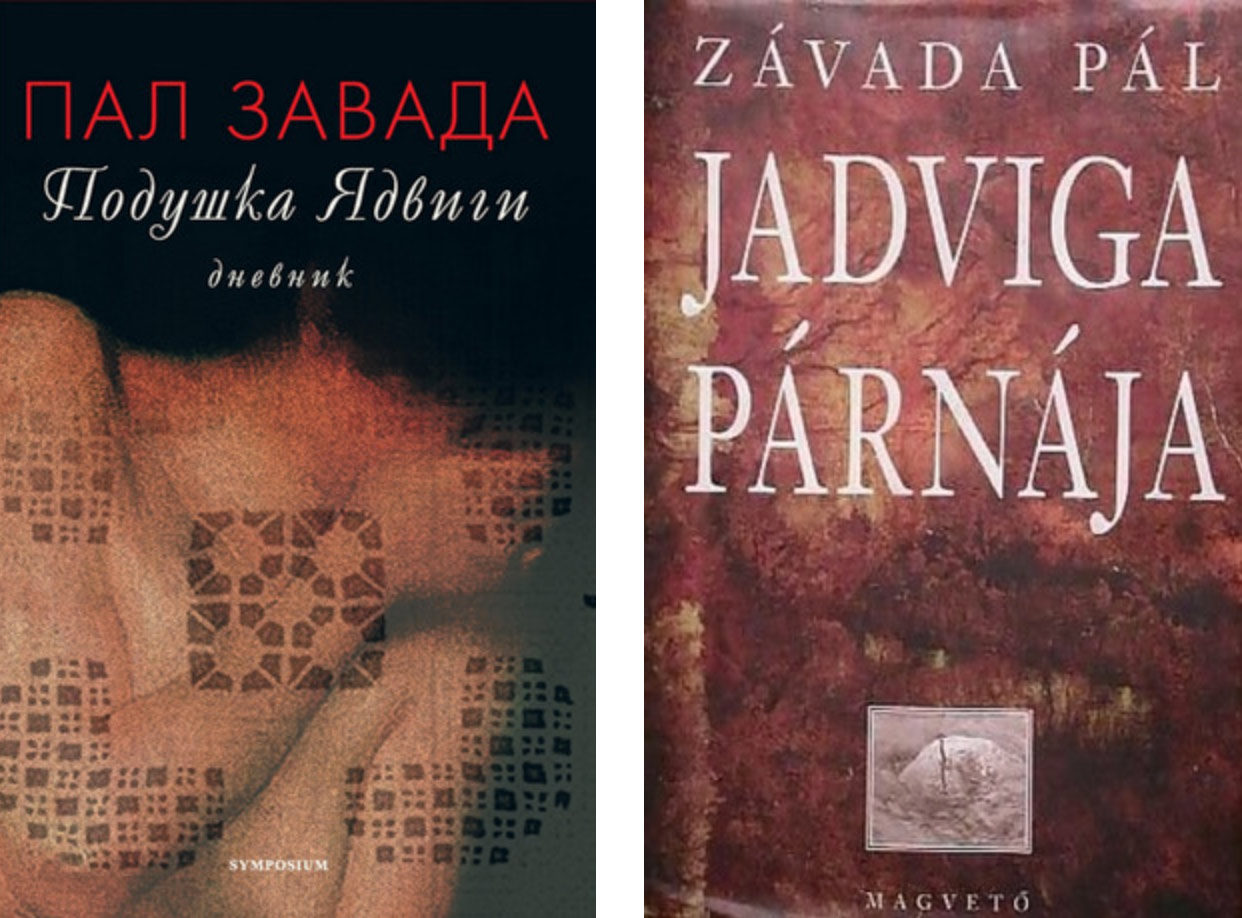


















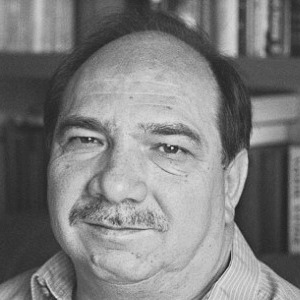


войдите или зарегистрируйтесь