О чем пишут и читают в современной Литве? Ответ на этот вопрос прост: о своем прошлом, которым литовцы буквально одержимы. Одинаково популярны вопросы национальной самоидентификации и осмысления исторических травм и достижений. Об этом написано несколько сильных книг в жанре нон-фикшен — философа Нерии Путинайте («Не порвавшаяся струна. Приспособление и сопротивление в Советской Литве», Nenutrūkusi styga. Prisitaikymas ir pasipriešinimas Sovietų Lietuvoje), психолога Дануте Галене («Психология тяжелых травм: последствия политических репрессий», Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai),социолога и политолога Айне Рамонайте и ее команды («В поисках корней Саюдиса: сила сети непокорных», Sajūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveiklos galia; «Что-то очень настоящее. Истории непослушного советского общества», Kažkas tokio labai tikro. Nepaklusniosios sovietmečio visuomenės istorijosи другие). Они привлекают к анализу исследования, а не только частные мнения и воспоминания. Также издается бесчисленное количество мемуаров, которые, в свою очередь, вызывают дискуссии и отклики в виде других книг.
Писатели тоже не остаются в стороне. Марюс Ивашкявичюс, изобразивший жизнь известного лидера борцов за свободу в послевоенное время («Зеленые», Žali); Рената Шерелите, предпринявшая попытку превратить в художественное произведение собственную жизнь — девочки, которая родилась в семье, высланной в Сибирь, и выросла, работая в колхозе («Дети Синей бороды», Mėlynbarzdžio vaikai); Сигитас Парульскис с его историей о том, как семейная память повлияла на характер потомков («Бормочущая стена», Murmanti siena).
Прошлое находит отражение в текстах и в виде более древней истории. Вопросы о том, что значит быть литовцами и откуда они произошли, до сих пор занимают умы. Так или иначе, исторический опыт никогда прежде не осмыслялся в литературе, и современные авторы предпринимают такие попытки. Несколько исторических романов, несколько детально реалистических и даже несколько предельно фантастических публикуются каждый год. Никому, однако, не удалось достичь успеха двухтомника «Сильва Рерум» (Silva Rerum) — судьбы нескольких поколений семьи шляхтичей в Великом Княжестве Литовском в XVI и XVII веках, — написанного искусствоведом Кристиной Сабаляускайте.
Хотя исторические темы болезненны и злободневны, это не единственный литературный материал. Регулярно встречаются отсылки к текущей социальной и культурной ситуации. Список всевозможных вариаций исторических тем включает и полупридуманные теории заговоров, и сильное недовольство внешней политикой, и пристальное внимание к отдельным группам общества, таким как, например, брошенные дети, в книгах Ванды Юкнайте (Tariamas iš tamsos: pokalbiai su vaikais) и Гендрутиса Моркунаса («История возвращения», Grįžimo istorija).
Еще одна социальная проблема, отчетливо присутствующая в литературе, — эмиграция. Некоторые воспринимают ее как демографическую, экономическую и социальную катастрофу, другие — как смелое возвращение себе надолго утраченного права жить там, где хочется, и так, как хочется. Люди уезжают за границу, чтобы учиться, работать или создать семью, и далеко не всегда планируют возвращаться. Естественно, среди них находятся те, кто обладает литературным талантом. Несколько лет назад начали появляться книги, рассказывающие о жизни эмигрантов — с юмором, философски и даже трагически. Они привлекают внимание читателей и критиков, заинтересованных в феномене эмиграции, но надо сказать, что литературное качество этих текстов очень разнится.
Интересно, что тема стала популярной среди авторов-дебютантов, таких как Александра Фомина, которая пишет о Великобритании («Мы вчера были на острове», Mes vakar buvome saloje), Даля Стапонкуте — о Кипре («Из двух выбираю третье», Iš dviejų renkuosi trečią: mano mažoji odisėja) и других. В их текстах — большое количество историй с неожиданными сюжетными поворотами, а главное — новое ощущение движения туда, куда не ступала нога человека, в буквальном и переносном смыслах.
Одна из главных тем для современных писателей — это собственно сама литература, пропустившая послевоенные открытия западной культуры, принужденная жить под гнетом соцреализма. Как она восполняет пробелы? Отказывается ли от чего-то? Придумывает ли что-то новое? Есть ли современным литовским писателям что предложить — себе, читателям и миру?
Результатом размышлений становятся эксперименты. Поэты пробуют себя в романах, журналисты и колумнисты пишут книги, а некоторые авторы и вовсе предлагают «пристрелить нарратив». Как и любые эксперименты, они не всегда оказываются успешными, но кое-что стоящее из этого все же получилось.
Доминирующий жанр в современной литовской литературе — эссе. На самом деле за этим понятием скрывается целый ряд коротких как художественных, так и нехудожественных текстов. И хотя некоторые критики замечают, что эта бесформенная форма начала процветать слишком быстро, затмевая более традиционные литературные конструкции, нужно сказать, что такое «уклончивое» письмо помогло выдвинуться целому ряду очень интересных авторов, таких как, например, Гедра Радвилавичиюте. Не менее важно то, что эти тексты заинтересовали читающую публику.
Роман, как и везде на Западе, признан наиболее технически удобным и уважаемым жанром, а также самым коммерчески успешным. Новеллы и рассказы могут быть хорошо написаны, но плохо продаваться, как и в других странах. Однако для литовцев роман — больное место. Он развивается практически с нуля и по-прежнему страдает от юношеских недугов. Эзопов язык, которым все еще пользуются по привычке, превратился в недостаток. Без цензуры, от которой он был призван укрывать, сложная игра превращается в непонятную и даже скучную. Работа над сюжетом и раскрытие персонажей — тяжелый труд, для которого таланта и вдохновения может быть недостаточно, — отсюда предложение «пристрелить нарратив». Роман сильно повзрослел за последние несколько лет благодаря молодому поколению, но чего все еще не хватает (хотя это не является недостатком для более высоколобых литераторов), так это чисто развлекательной, массовой литературы. Попытки писать детективы, триллеры или любовные романы предпринимаются, но эти тексты всегда уступают зарубежным аналогам.
Однако есть и исключения. Рута Шепетис, американская литовка во втором поколении, написала по-английски роман о семье, высланной в Сибирь в начале советской оккупации. «В оттенках серого» (Between Shades of Grey) задумывался как литература янг-эдалт, но был горячо принят критикой и достиг коммерческого успеха в том числе и как история для всех возрастов. Он был переведен на более чем двадцать языков. Хотя непосредственные очевидцы событий утверждают, что книга исторически недостоверна, Шепетис остается примером еще одного возможного пути развития современной литовской литературы. О чем пишут и читают в современной Литве? Ответ на этот вопрос прост: о своем прошлом, которым литовцы буквально одержимы. Одинаково популярны вопросы национальной самоидентификации и осмысления исторических травм и достижений. Об этом написано несколько сильных книг в жанре нон-фикшен — философа Нерии Путинайте («Не порвавшаяся струна. Приспособление и сопротивление в Советской Литве», Nenutrūkusi styga. Prisitaikymas ir pasipriešinimas Sovietų Lietuvoje), психолога Дануте Галене («Психология тяжелых травм: последствия политических репрессий», Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai),социолога и политолога Айне Рамонайте и ее команды («В поисках корней Саюдиса: сила сети непокорных», Sajūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveiklos galia; «Что-то очень настоящее. Истории непослушного советского общества», Kažkas tokio labai tikro. Nepaklusniosios sovietmečio visuomenės istorijosи другие). Они привлекают к анализу исследования, а не только частные мнения и воспоминания. Также издается бесчисленное количество мемуаров, которые, в свою очередь, вызывают дискуссии и отклики в виде других книг.
Писатели тоже не остаются в стороне. Марюс Ивашкявичюс, изобразивший жизнь известного лидера борцов за свободу в послевоенное время («Зеленые», Žali); Рената Шерелите, предпринявшая попытку превратить в художественное произведение собственную жизнь — девочки, которая родилась в семье, высланной в Сибирь, и выросла, работая в колхозе («Дети Синей бороды», Mėlynbarzdžio vaikai); Сигитас Парульскис с его историей о том, как семейная память повлияла на характер потомков («Бормочущая стена», Murmanti siena).
Прошлое находит отражение в текстах и в виде более древней истории. Вопросы о том, что значит быть литовцами и откуда они произошли, до сих пор занимают умы. Так или иначе, исторический опыт никогда прежде не осмыслялся в литературе, и современные авторы предпринимают такие попытки. Несколько исторических романов, несколько детально реалистических и даже несколько предельно фантастических публикуются каждый год. Никому, однако, не удалось достичь успеха двухтомника «Сильва Рерум» (Silva Rerum) — судьбы нескольких поколений семьи шляхтичей в Великом Княжестве Литовском в XVI и XVII веках, — написанного искусствоведом Кристиной Сабаляускайте.
Хотя исторические темы болезненны и злободневны, это не единственный литературный материал. Регулярно встречаются отсылки к текущей социальной и культурной ситуации. Список всевозможных вариаций исторических тем включает и полупридуманные теории заговоров, и сильное недовольство внешней политикой, и пристальное внимание к отдельным группам общества, таким как, например, брошенные дети, в книгах Ванды Юкнайте (Tariamas iš tamsos: pokalbiai su vaikais) и Гендрутиса Моркунаса («История возвращения», Grįžimo istorija).
Еще одна социальная проблема, отчетливо присутствующая в литературе, — эмиграция. Некоторые воспринимают ее как демографическую, экономическую и социальную катастрофу, другие — как смелое возвращение себе надолго утраченного права жить там, где хочется, и так, как хочется. Люди уезжают за границу, чтобы учиться, работать или создать семью, и далеко не всегда планируют возвращаться. Естественно, среди них находятся те, кто обладает литературным талантом. Несколько лет назад начали появляться книги, рассказывающие о жизни эмигрантов — с юмором, философски и даже трагически. Они привлекают внимание читателей и критиков, заинтересованных в феномене эмиграции, но надо сказать, что литературное качество этих текстов очень разнится.
Интересно, что тема стала популярной среди авторов-дебютантов, таких как Александра Фомина, которая пишет о Великобритании («Мы вчера были на острове», Mes vakar buvome saloje), Даля Стапонкуте — о Кипре («Из двух выбираю третье», Iš dviejų renkuosi trečią: mano mažoji odisėja) и других. В их текстах — большое количество историй с неожиданными сюжетными поворотами, а главное — новое ощущение движения туда, куда не ступала нога человека, в буквальном и переносном смыслах.
Одна из главных тем для современных писателей — это собственно сама литература, пропустившая послевоенные открытия западной культуры, принужденная жить под гнетом соцреализма. Как она восполняет пробелы? Отказывается ли от чего-то? Придумывает ли что-то новое? Есть ли современным литовским писателям что предложить — себе, читателям и миру?
Результатом размышлений становятся эксперименты. Поэты пробуют себя в романах, журналисты и колумнисты пишут книги, а некоторые авторы и вовсе предлагают «пристрелить нарратив». Как и любые эксперименты, они не всегда оказываются успешными, но кое-что стоящее из этого все же получилось.
Доминирующий жанр в современной литовской литературе — эссе. На самом деле за этим понятием скрывается целый ряд коротких как художественных, так и нехудожественных текстов. И хотя некоторые критики замечают, что эта бесформенная форма начала процветать слишком быстро, затмевая более традиционные литературные конструкции, нужно сказать, что такое «уклончивое» письмо помогло выдвинуться целому ряду очень интересных авторов, таких как, например, Гедра Радвилавичиюте. Не менее важно то, что эти тексты заинтересовали читающую публику.
Роман, как и везде на Западе, признан наиболее технически удобным и уважаемым жанром, а также самым коммерчески успешным. Новеллы и рассказы могут быть хорошо написаны, но плохо продаваться, как и в других странах. Однако для литовцев роман — больное место. Он развивается практически с нуля и по-прежнему страдает от юношеских недугов. Эзопов язык, которым все еще пользуются по привычке, превратился в недостаток. Без цензуры, от которой он был призван укрывать, сложная игра превращается в непонятную и даже скучную. Работа над сюжетом и раскрытие персонажей — тяжелый труд, для которого таланта и вдохновения может быть недостаточно, — отсюда предложение «пристрелить нарратив». Роман сильно повзрослел за последние несколько лет благодаря молодому поколению, но чего все еще не хватает (хотя это не является недостатком для более высоколобых литераторов), так это чисто развлекательной, массовой литературы. Попытки писать детективы, триллеры или любовные романы предпринимаются, но эти тексты всегда уступают зарубежным аналогам.
Однако есть и исключения. Рута Шепетис, американская литовка во втором поколении, написала по-английски роман о семье, высланной в Сибирь в начале советской оккупации. «В оттенках серого» (Between Shades of Grey) задумывался как литература янг-эдалт, но был горячо принят критикой и достиг коммерческого успеха в том числе и как история для всех возрастов. Он был переведен на более чем двадцать языков. Хотя непосредственные очевидцы событий утверждают, что книга исторически недостоверна, Шепетис остается примером еще одного возможного пути развития современной литовской литературы.













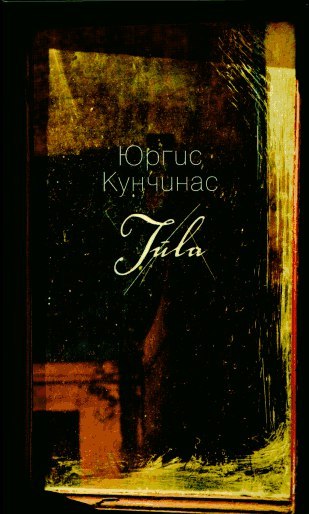


войдите или зарегистрируйтесь