Что изнуряет и что бодрит: о переводах современной русской литературы на немецкий язык
«Что изнуряет и что бодрит» — это название стихотворения Гюнтера Грасса, которое перевел Вячеслав Куприянов. В нем рассказывается о том, сколь многое изнуряет человека, если он следит за политикой и экономической ситуацией. И последняя строфа такая:
И напротив: мне издавна бодрости придает
желание еще и еще раз
в надежном кресле карусели,
катаясь по кругу, почувствовать нечто,
подобное ощутимой свободе,
которая пусть коротка
и все же всегда повторима.
Мне кажется, что в этих словахе звучит описание процесса чтения, когда мы будто бы катаемся в надежном кресле карусели, воспринимая текст, почти ничем не рискуя, и можем радоваться ощущению творческой свободы, и вместе с тем понятно, что эта свобода все-таки всегда повторима. И кажется, что, несмотря на постоянно раздающийся возглас — совершенно невозможно переводить и это абсолютно непереводимо (как у Твена: «слухи о моей смерти сильно преувеличены»)! — все-таки переводимо. Вопрос в количестве художественных усилий, таланта, времени, потраченных на текст. При благоприятных обстоятельствах все возможно.
Когда-то давно я сидела в Публичке, разыскивая переводы Марины Палей. Мне очень нравилась тогда ее проза (и сейчас нравится). Вот, думаю, петербурженка, замечательный автор. Сейчас она уже не просто петербурженка, а, как о ней пишут, русско-голландская писательница и поэтесса, переводчик поэзии. Я тогда рылась в Публичке в поисках текстов и думала — ну как же так? Почему так много авторов переведены на немецкий, а Марина Палей так мало? С чем это связано?
Ситуация изменилась в далеком 1996-м, потому что в 1992 году в Германии вышла повесть «Кабирия с Обводного канала» (1991) (Die Cabiria vom Umleitungskanal, Rowohlt, 1992). Потом в Австрии вышли сборники рассказов Rückwärtsgang der Sonne (Droschl, 1997) и Inmitten von fremden Ernten (Kitab, 2010). Второе название — цитата из одного рассказа Марины Палей, которую выхватила замечательная Кристине Энгель, переводчик и знаменитый в Австрии профессор-славист. Важно, что рассказы Марины Палей, попавшие в немецкоязычную среду, были названы Inmitten von fremden Ernten. Буквально «Посреди чужих урожаев»: то есть принесла словесность — и переводчик плюхается в результаты трудов всей этой словесности и обнаруживает для себя то или иное интересное.
Вопрос о том, почему одно переводят, а другое — нет, задавал себе каждый человек, который занимался литературой, литературной критикой. Переводчики, может быть, знают, это нам со стороны не так понятно. Если мы всматриваемся в переводческий ландшафт в связи с этим, то что мы видим? По большому счету, две разновидности проектов. С одной стороны — крупные, успешные проекты, например, перевод книги Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». В 1996 году этот текст выходит на русском языке, его переводит Наташа Водин, и в Мюнхене в 2007 году, с большим запозданием, его выпускает крупное издательство Wilhelm Heyne Verlag.
Мне было любопытно посмотреть, с какими аннотациями продается этот текст. Что нужно сказать в 2007-м году немецкому читателю, чтобы он все-таки взял в руки книжку совершенно неизвестного ему автора Павла Санаева? И вот что было сказано в австрийской газете Die Presse: «Об ужасе чрезмерной опеки крайне редко рассказывают так смешно, как русский сценарист Павел Санаев в его дебютном романе». Тут уже сказано, что он автор сценариев, то есть ожидается нечто похожее на экшен, и тут уже сказано, что это его романный дебют, то есть не беда, что читатель ранее о Санаеве не слышал.
Вторая рецензия нашлась в немецкой газете Westfalenpost, и там написано совсем другое, но тоже есть попытка поместить книгу в какой-то контекст. Сказано, что это похоже на Марка Твена с его Томом Сойером, что автору удивительно хорошо удалось вчувствоваться в ситуацию ребенка (а что ж ему не вчувствоваться, если это его собственное детство?) и что надежды и всяческие томления, радости, которые переживает ребенок, описаны удивительно забавно — грандиозная трагикомедия.
Это, мне кажется, неплохая иллюстрация для крупных переводческих проектов, которые потом издаются довольно большими тиражами. Таких проектов не слишком много, зато есть россыпь малых проектов, то, что по-немецки можно назвать Liebhaberprojekte. Это проекты профессионалов, которые любят то, что делают. Тут мне бы хотелось вспомнить, например, сборник русскоязычных рассказов Bist du echt ein Russe? Literarisches aus der Wendezeit 2006 года. В переводе он называется так: «А ты действительно русский? Литературное из эпохи перемен». Его издала Кристине Энгель. Конечно, сборник сделан так, чтобы сориентировать людей. Вместе с тем человек, который занимается этим проектом, исходит из того, что сейчас он читателей сориентирует, а потом этих авторов переведут, и они попадут в разряд крупных проектов. Обычно этого не происходит, хотя, конечно, хочется надеяться. Эта книжечка, например, включает произведения Андрея Левкина, Сергея Носова, Виктора Пелевина, Алексея Слаповского, Михаила Веллера и других.
Малые проекты — это крошечные тиражи, это маленькие издательства, которые существуют не очень долго. Вот издательства Kitab, о котором я уже говорила, и которое как раз выпустило и эту маленькую книгу, больше нет. И книжку эту практически не раздобыть.
Есть другие малые проекты, среди которых мне хотелось бы вспомнить то, что делает Роберт Ходель. Профессор, руководитель кафедры славистики — только не в Австрии, в Инсбруке, как Кристине Энгель, а в Германии, в Гамбурге. Он издает не прозу, а стихи, и занят этим многие годы. Он собирает стихотворения современных поэтов, причем структурирует их по поколениям. Он издает билингвы — и на сегодня вышли — по крайней мере, насколько мне известно — две больших антологии.
Одна из них называется «За окном внизу — народ и власть» — антология русской поэзии поколения сороковых-шестидесятых годов. Ходель эту поэзию издал — и собрал, и перевел, и прокомментировал, и он же, насколько я знаю, снабдил книгу предисловием и биографиями тридцати поэтов. Вышла книга в Лейпциге в 2015 году. Она хорошо известна и в России и была отмечена премией «Петрополь». Ходель думал, что делает очень важное дело для немецкоязычной литературы, а оказалось, что это и для русскоязычной литературы очень важное дело — собрать определенное поколение поэтов, стихи, которые понятны стороннему взгляду. Так что выборка специфическая — и очень интересная.
Вторая книга вышла в 2019 году. Это продолжение, называется «Шла по России...». Это издание поэзии поколения шестидесятых-восьмидесятых годов. И тоже собрано, переведено, прокомментировано, с предисловием — двадцать восемь поэтов. Выпущено тем же самым издательством в Лейпциге.
Что же мешает? Что изнуряет, так сказать? Изнуряет в переводческом сфере разное. Может быть, это банальность, но современную русскоязычную литературу часто сложно понять, многое требует объяснений. Несмотря на то, что многие сферы нашей жизни сейчас как будто бы сближаются, скажем, с обычной жизнью немецкоязычного человека, все-таки многие реалии совершенно неясны и требуют объяснений. И если эти объяснения требуются в объемах, значительно превышающих размер самого произведения, то понятно, что у такого произведения не очень много шансов найти читателя не среди славистов.
Я в связи с этим вспоминаю сочинение очень дорого мне человека и, по-моему, прекрасного поэта и прозаика Бориса Констриктора. Если в качестве художественного жеста Констриктор пишет в одном из своих текстов: «Я — Таня Савичева» — то как это можно понять, если человеку неизвестно, кто такая Таня Савичева? Что тут можно понять, если непонятен основной образ? С этим, конечно, сталкиваешься, когда пытаешься читать русскоязычные тексты с немецкоязычной публикой разных мастей — даже со славистами.
Не очень легко воспринимается юмор. Однажды у меня был эксперимент с немецкоязычными студентами-славистами: я отмечала, сколько раз им смешно на протяжении чтения текстов Хармса и Зощенко. Я обнаружила, что им понятны семьдесят процентов шуток, а тридцать процентов шуток мне не удается объяснить. А вот с ходу, чтобы без объяснений — понятны процентов тридцать-сорок. Пояснения даже в этих вопросах очень нужны, хотя есть тип юмора, который более понятен, а есть тип юмора, который менее понятен. Мне кажется, что играют определенную роль и литературные традиции: скажем, гоголевская направленность шуток или связанная с ней линия Хармса понятны, а какие-то другие — нет. Просто Гоголь оказал огромное влияние на немецкоязычную литературу. В этом смысле, конечно, у переводчиков сложная ситуация: трагическое получается передать, а большая часть комического не достигает читателя.
В целом, русскоязычным писателям, которые находятся во взаимодействии с переводчиками, может быть и удается зачастую что-то объяснить, а переводчик в силу своих возможностей может найти что-то подходящее в родной речи. Например, легко обнаружились замечательные слова Алексея Слаповского, которые он сказал в 2003 году о переводах своих произведений на немецкий: «Сложность состоит не столько в том, чтобы перевести русскую речь на немецкий язык. Сложность в том, чтобы перевести русскую жизнь. Адаптировать, естественно, нельзя, а есть вещи, которые абсолютно непонятны зарубежному читателю. Поэтому мы долго работаем с переводчиками. И у меня есть ощущение, что смысл доходит. Я же слышал, как сегодня читался немецкий текст. И смех появлялся именно в тех местах, в каких он появился бы, если бы это слушала русская аудитория».
А что же помогает, что бодрит? Меня лично бодрит факт участия в процессе перевода русской литературы замечательных личностей. Переводчиков, которые зачастую оказывают мощную поддержку русскоязычным авторам. Для меня ярким примером стало то, что произошло с книгой Владимира Сорокина «Месяц в Дахау». Произведение было написано в 1990 году, а первое издание (наверное, это известный факт) было не на русском языке, а в переводе. Это на самом деле очень печальная ситуация, когда нужен перевод, чтобы что-то сообщить о значимости автора, потому что собственная публика с трудом это понимает. Произведение Сорокина воплощает пересмотр словарного запаса русского языка. Ужасно важный акцент для словесности, которая переваривает следы тоталитарного опыта, всматривается в свой язык и видит, сколько в нем следов кровопролития, ужасов, подавления и уничтожения людей. Сколько кошмарного хранится в языке, которым мы пользуемся, совершенно не задумываясь над этими деталями (как бы деталями — ведь они суть дела). И страшно, что такое произведение вынуждены издавать сначала на немецком, хотя в «Месяц Дахау» жуткий разворот именно немецкой темы.
Представьте, пишет в 1990 году человек текст, который перетряхивает весь словарный запас: мол, посмотрите, что там за гады живут в этом запасе, какие там бяки отлично себя чувствуют, оживают в наших речевых аппаратах, — вытряхивает всю гадость из человеческой речи, собирая в книгу. И это слышат не люди, которые говорят на русском языке. Это слышит немецкоязычная публика. Мгновенно находится переводчик, и грандиозный переводчик, Петер Урбан, благодаря которому на немецком языке существуют и Пушкин, и Чехов, и Хармс. И перевод освящен тем, что это Петер Урбан, и всем известно, что он не может переводить что попало, если он взялся переводить, то это какая-то очень важная книга. А потом уже осуществляется публикация на русском языке: Владимир Сорокин, «Месяц в Дахау», Москва, газета «Сегодня», 13 номер 1994 года.
Для немецкого читателя книга такого типа — понятное явление, потому что у немцев тоже был тоталитарный режим, и они в сороковые-шестидесятые провели работу по рассматриванию словарного запаса на этот предмет. Им, конечно, страшно смотреть на языковые ужасы, но они уже это видели, и поэтому, хоть им и страшно, но смотреть они могут прямее и честнее, чем мы. Поэтому они это и делают, поэтому Урбану стало это интересно.
Из крупных имен еще можно назвать Феликса Филиппа Ингольда. Он швейцарский писатель, публицист, переводчик. Он переводил Мандельштама, Булгакова, Пастернака, Цветаеву, Бродского — у него замечательный послужной список. В 2002 году он переводит Геннадия Айги, и, даже если немецкая публика ничего не слышала о Геннадии Айги, все равно всем понятно, что это книга, которая должна выйти большим тиражом — просто потому, что это переводит Феликс Ингольд. И снова в немецком названии мелькает замечательный образ поля — Aus Feldern Russland, «Поле-Россия», как и у Кристины Энгель. Видимо, это пространство наводит немецкого читателя на какие-то ассоциации.
Еще можно вспомнить Ральфа Дутли, швейцарского филолога, поэта, эссеиста, биографа и переводчика на немецкий и французский языки. У него тоже грандиозный послужной список: Мандельштам, Цветаева, Бродский. И если Ральф Дутли, рассуждая о Бродском, цитирует в своем собственном переводе несколько пассажей из книги Ольги Седаковой, то немецкоязычному читателю понятно, что надо срочно читать Ольгу Седакову — потому что ее упомянул Ральф Дутли.
Что еще помогает и что бодрит? Визуальные и акустические формы экспериментальной поэзии. Мне кажется, что переводы такого рода довольно легко осмыслять немецкоязычным читателям, поскольку ею увлекается в Германии несопоставимо больше людей, чем у нас.
Например, Валерий Шерстяной — поэт и филолог, автор звуковых стихотворений и рукописных книг, представитель традиций русского авангарда, который живет в Германии с 1979 года. Конечно, когда он делает акустический перфоманс, и даже если читатель не знает слов или знает только одно слово — например, «матрешка», — которое автор поет, наращивая громкость и объемность звучания, чтобы выразить вселенскую мощь: «Матрешка, МАТрешка, МАТРЕШКА», — это очень впечатляет.
Во Фрайбургском университете, где я преподавала один семестр, мы с доктором Вертье Вильмс и Штефани Штегманн, которая возглавляла на тот момент «Литературное бюро» Фрайбурга, организовали в 2012 году фестиваль под названием «Шагадам Магадам», названный по известной футуристической строчке. Мы пригласили выступить Бориса Констриктора и Бориса Кипниса. Это был грандиозный успех, хотя публика, в основном, не понимала русского языка.
Тогда Вадим Максимов, руководитель «Театральной лаборатории» — петербургского экспериментального театра, который специализируется на авангарде, — поставил со швейцарскими студентами, непрофессиональными актерами, пьесу Велимира Хлебникова «Боги». И в крошечном городе эту постановку пришли посмотреть триста человек.
Вспоминается и такой случай из разряда контактов экспериментальных поэтов немецкоязычного и русскоязычного пространств: Дмитрий Авалиани — замечательный поэт, который, к сожалению, умер в 2003 году, создавал тексты-зеркалки — «листовертни». Его сборник под названием «Лазурные кувшины» выпустили в «Издательстве Ивана Лимбаха». Очень интересная кинетическая поэзия, связанная с движением.
Гюнтер Валластер, венский поэт-визуалист, издает антологии экспериментальной поэзии. И антологию 2006 года с различными произведениями немецких визуалистов он посвятил памяти Авалиани. В этот сборник вошли произведения и других русских авторов, например, Бориса Констриктора. А я написала к нему предисловие. Следующая антология визуальной немецкой поэзии вышла в 2010 году. Обе эти книги содержат одно важное слово-неологизм — Grenzüberschneidunge («пересечение границ»). Причем здесь сами границы пересекают друг друга. В рамках этих интернациональных антологий тексты Авалиани выглядят прекрасно.
Совершенно логично, что, когда в 2018 году планировался специализированный выпуск журнала die horen (в переводе с нем. «оры» — богини времен года в древнегреческой мифологии — прим. ред.), Юрген Кретцер, один из составителей, написал мне с просьбой рассказать об Авалиани. Без него такой интернациональный сборник немецкий издатель представить себе не мог.
Что еще бодрит? Поэзия музыкального характера, созвучие, особенное звучание стихов, которые слышно, даже если не очень хорошо понятны слова.
Вспоминается Елизавета Мнацаканова, с которой мне посчастливилось быть знакомой. Она жила в Вене, но в австрийскую литературу вошла как Элизабет Нетцкова. Елизавета Аркадьевна рассказывала, что когда она только приехала в Вену, то читала свое стихотворение, в котором идет речь о голосах птиц, на русском языке. Среди слушателей был музыкант, автор электронной музыки Вольфганг Музиль. И вот она читает произведение, думая, что ничего не понятно из ее слов, голоса птиц она не имитировала, а Вольфганг Музиль идет к синтезатору и включает мелодию с голосами птиц во время ее чтения, чтобы подложить это звучание. Потому что ему показалось, что хорошо сочетается. Волшебство поэзии!
Есть очень интересный немецкий поэт Герхард Фалькнер, который в 2008 году выпустил сборник HÖLDERLIN REPARATUR — перевести это сочетание слов невозможно. В вошедших в него текстах слышны отголоски поэзии Гёльдерлина. Я не совсем понимаю стихи Фалькнера, но слышу, что это грандиозная поэзия. Так же, например, поэт Гюнтер Валластер слышит, что полифоносемантика Александра Горнона грандиозна. А потом уже и объяснить, что такое полифоносемантика, на немецком можно, особенно если еще при этом можно показать работы Горнона, понятнее становится.
Что еще бодрит? Любопытство. Не будем скрывать, это главный движущий механизм переводческих процессов, и его много. Во время моего преподавания во Фрайбурге мы со студентами как-то увлеклись чтением стихов, и особенное впечатление произвел Генрих Сапгир, это была небольшая подборка стихов с предметами. Студенты сами захотели все перевести. Мы это вычистили, а потом забавно инсценировали и показали огромному множеству людей в старом здании вокзала. Им было любопытно, как предмет втягивается в стихотворение. Например, текст, который можно прочитать вслух при поедании лимона без сахара (когда откусить лимон, там написано) с соответствующей игрой физиономии, сложным образом сочетающейся со словами, которые подбирает Сапгир. Вот такой лимон бодрит сильно.
Еще бодрит то, что называется немецким словом Vorsprung — «преимущество во времени». Кое-какие вещи, которые мы проходим, в немецкоязычном пространстве уже прошли. Например, это касается постмодернистски окрашенной литературы. Конечно, волна таких текстов возникла не в девяностые годы в Германии, а гораздо раньше. Соответственно, немецкоязычному читателю, поскольку он литературу такого рода уже видел раньше, она близка как интересная и важная, она уже как-то осмыслена. Ему наш постмодернизм понимать легче. Если читатель, конечно, абстрагируется от реакции: «Да это у нас уже было!»
Не зря большим успехом пользуется в кругах немецкоязычной публики Алексей Слаповский. Например, переводы его романов «Анкета» (Formular) и «Первое второе пришествие» (Der heilige Nachbar, буквально — «Святой сосед»), а потом и замечательный перевод Ханнелоре Умбрайт сборника прозы «День денег» (Der Tag des Geldes) вышли с совсем небольшим отставанием.
Еще Слаповский очень важен сейчас для немецкоязычного театра: его пьесы много где ставят. Это специфическая ситуация, которая очень отличается от нашей: пьесы современных авторов имеют в немецкоязычном пространстве большие перспективы, потому что общество интересуется современной литературой — а значит, театрал с удовольствием пойдет смотреть спектакль, поставленный по современной пьесе. Современные хорошие пьесы — редкий вид, поэтому логично брать их отовсюду и активно переводить.
Где еще проявляется Vorsprung в немецкой литературе? Например, в стихах. В немецкоязычной традиции давно господствует и главенствует нерифмованная поэзия — она не хочет знать ни рифм, ни строф. Поэтому русские авторы, работающие в этой традиции, при всех сложностях, которые они испытывают у нас, немецкими читателями воспринимаются на ура. Петербургский поэт Аркадий Драгомощенко понятен сразу немецкому человеку — и не потому, что родился в Потсдаме. Этот тип поэзии как во французскоязычном, так и в немецкоязычном пространстве отлично себя чувствует. А вот русскоязычным читателям понять немецких поэтов — а они практически все такие — очень затруднительно, вместе с тем это было бы крайне важной поддержкой нерифмованной поэзии в нашей стране.
Мне вспомнилась и обратная ситуация, когда русскоязычный поэт был очень нужен немецкоязычным. Дело было в шестидесятые годы и в начале семидесятых. Тогда уже упомянутому Петеру Урбану пришло в голову, что экспериментальная поэзия Велимира Хлебникова совершено недоступна немецкоязычному читателю. Но он понимает, что Хлебников, в общем-то, непереводимый автор (особенно если мы возьмем его заумные стихи), объединяется со слависткой Роземари Циглер, и вдвоем они создают описания художественных методов, которые Хлебников использует в отдельно взятых стихотворениях. Они отобрали около пятидесяти стихотворений и пригласили немецкоязычных поэтов, чтобы те, опираясь на представленные им художественные методы Хлебникова, переложили его стихотворения на немецкий, пользуясь теми же приемами.
Так родился гигантский проект, в который включились Пауль Целан, Ханс Магнус Энценсбергер, которые уже до этого к Хлебникову активно обращались, и замечательный немецко-румынский поэт Оскар Пастиор, который тоже с Хлебниковым уже выстраивал особые отношения. Подключилась признанная теперь «королева поэзии» Фридерике Майрёкер, немыслимо знаменитый Эрнст Яндль, замечательный экспериментальный поэт Франц Мон, грандиозный визуальный поэт Герхард Рюм. В общем, цвет немецкоязычной поэзии. И в результате их художественных усилий в 1972 году вышло солидное издание: произведения Хлебникова на немецком языке в двух томах.
Сейчас тоже, вот уже много лет, существует один проект такого типа — «Поэтическая диВЕРСия» / VERSSCHMUGGEL (дословно — контрабанда стихов). Он построен похоже, но нацелен не на творчество грандиозного авангардиста прошлого, а на современных авторов. Заключается он во встречах поэтов из разных стран и совместном создании ими переводов стихов друг друга. Такой проект работает интересно, а вот бы сделать еще и нечто подобное переводам Хлебникова, в духе Урбана.
И напоследок о том, что еще помогает и что бодрит. Связи и случайности. Вспоминается, как в 2002 году я была на одной камерной конференции в Цюрихе и делала доклад о стихотворении Драгомощенко «Бумажные сны». На этом мероприятии был славист-литературовед и грандиозный переводчик из Берлина профессор Георг Витте. Он сидел, ничего не говорил, а потом, годы спустя, мне на глаза попадается выпуск die horen 2004 года, посвященный петербургской поэзии. И там то самое стихотворение «Бумажные сны» в его переводе. И теперь я очень счастлива, что наша случайная встреча способствовала возникновению такого прекрасного перевода. Вот и получается — начали с поисков закономерностей, а закончили все же волшебными случайностями. И это тоже хорошо.









































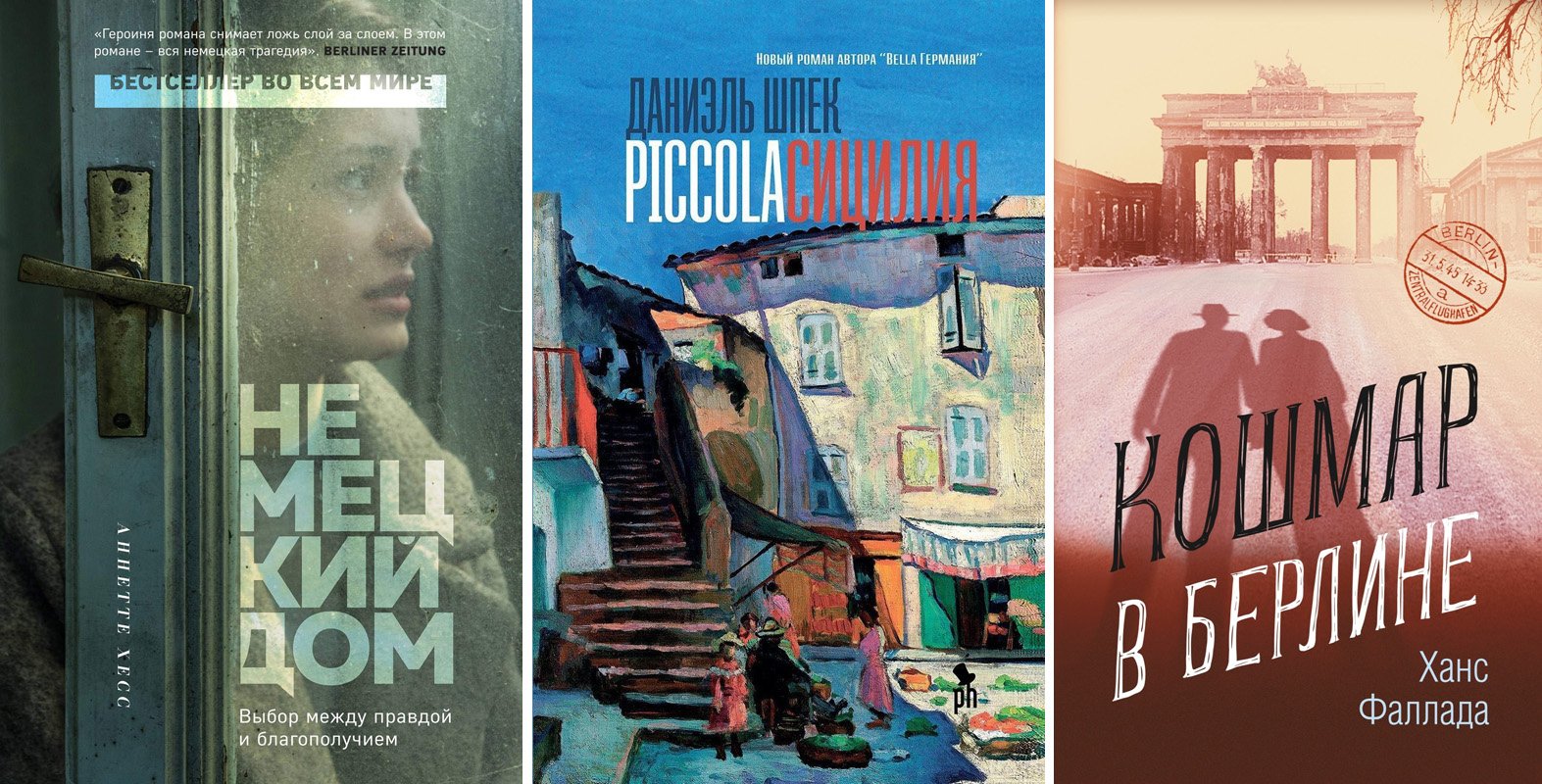







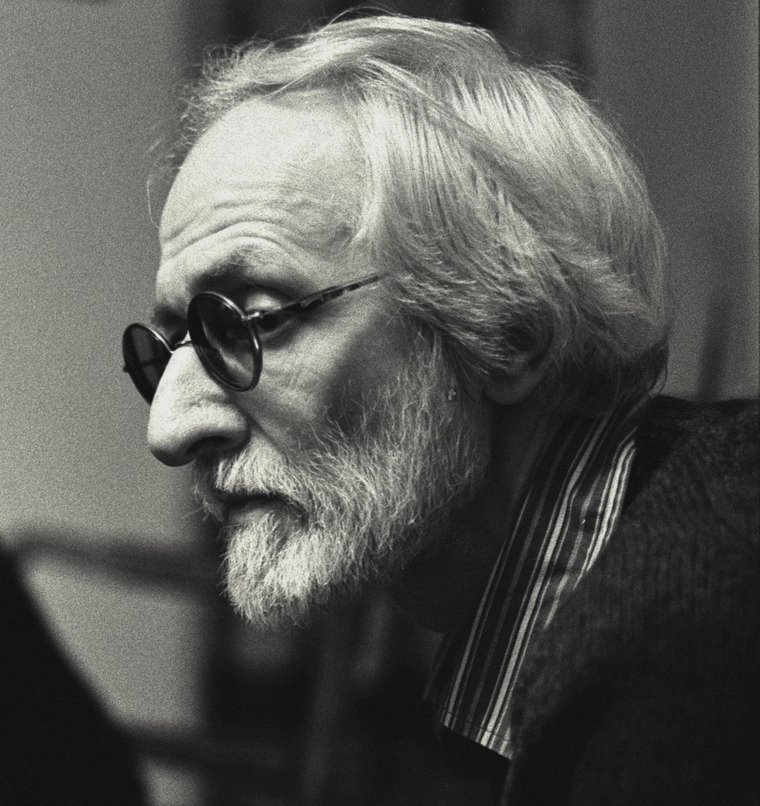









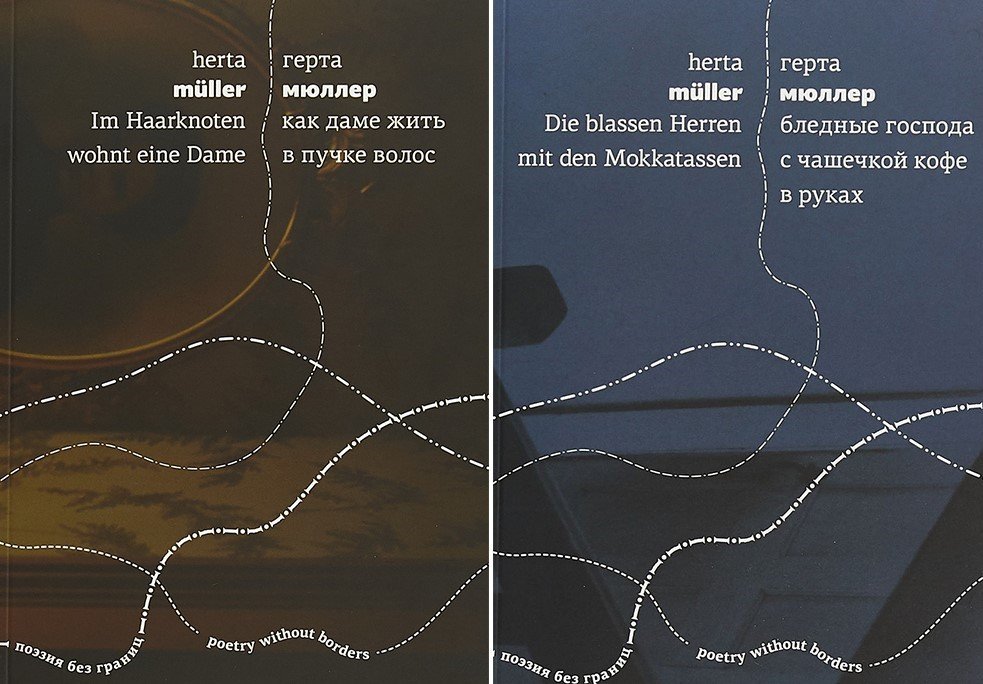











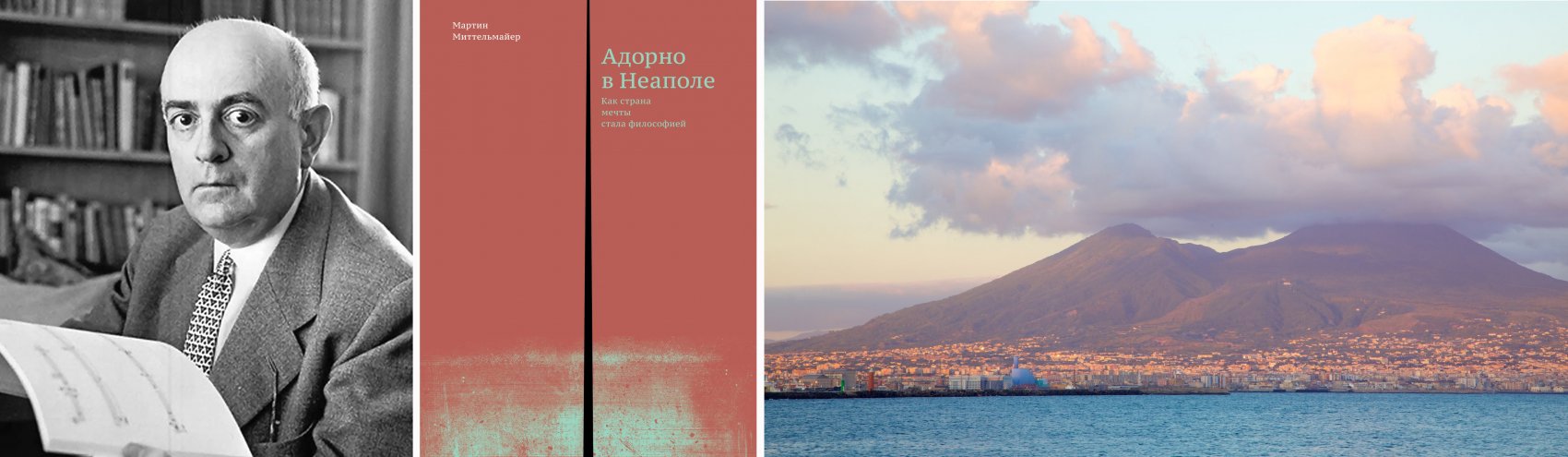
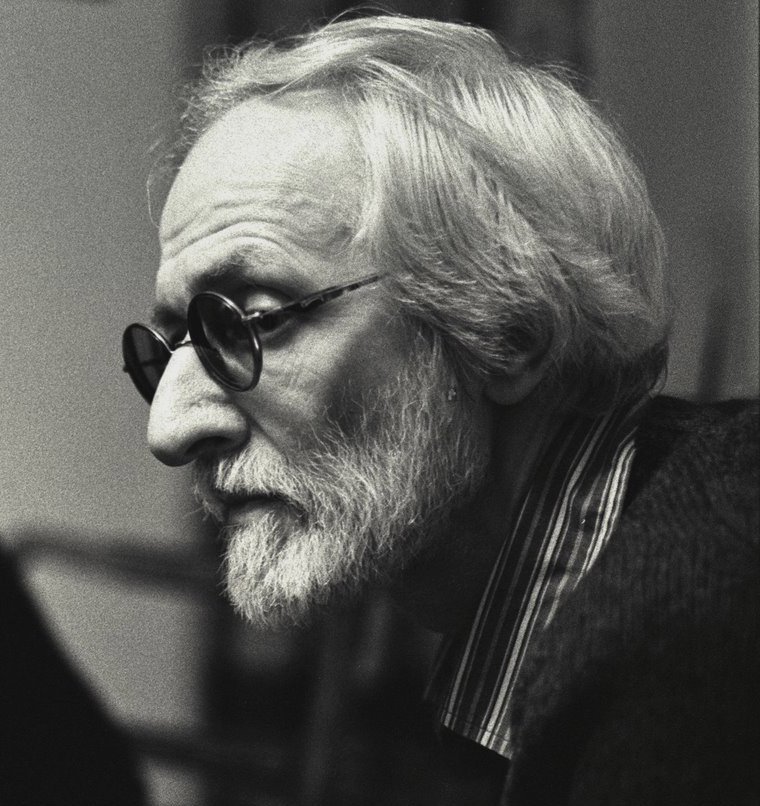








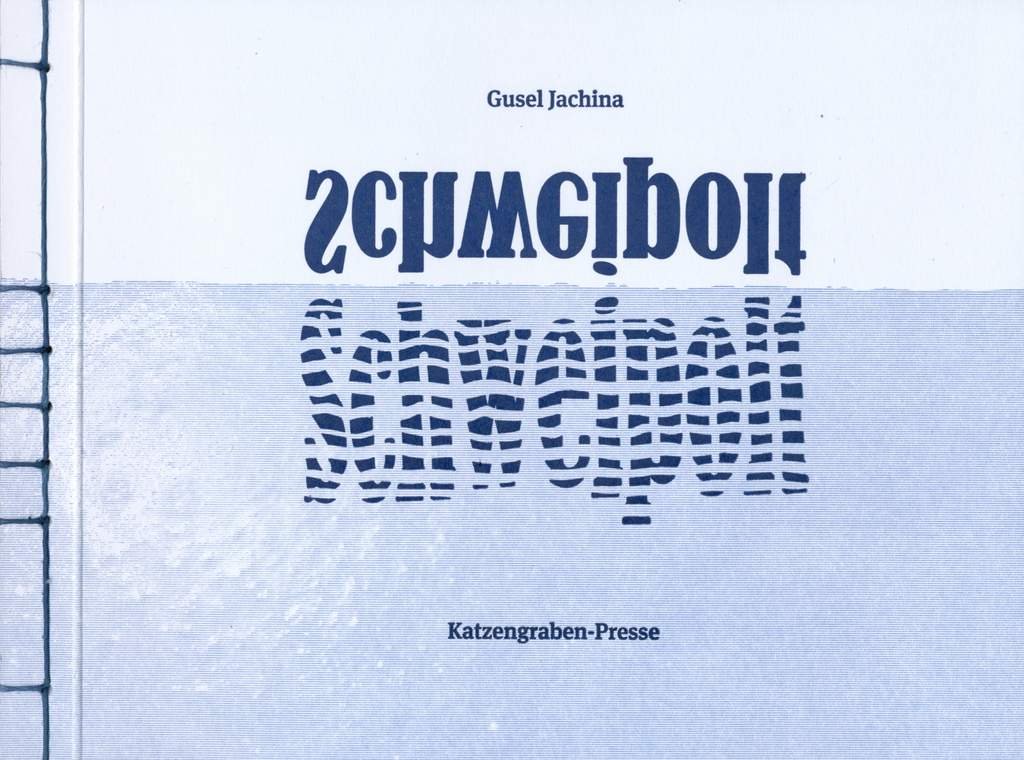

войдите или зарегистрируйтесь