1 Защищая честь Кёко, заметим, что часть их — поклонники все же платонические.
2 Текст романа цитируется в переводе Е. Струговой, дневники Мисимы и критические реакции даются в моем переводе.
3 В гостиной дамы тяжело
Беседуют о Микеланджело.
И конечно, будет время
Подумать: «Я посмею? Разве я посмею?» (англ.) — Цитируется «Песнь любви Дж. Альфреда Пруфрока» Томаса Стернза Элиота, перев. А. Сергеева.
4 Мисима, как мы знаем, рассматривался в качестве претендента на Нобелевскую премию, и ее неполучение было для него довольно болезненно, хотя он и собрался, не потерял лицо и искренне поздравил своего учителя Ясунари Кавабату с получением премии. Получить же ее Мисима не мог не столько из-за каких-то интриг (не пролоббировали бы премию Шолохову…) и «страновой квоты» на японских авторов, сколько из-за тех самых своих патриотических взглядов — да и слишком фривольного, скажем так, и темного, демонического содержания своих книг.
5 В терминологии тех лет это называлось «минсюсюги сэйнэн» (демократическая молодежь) и «айкоку сэйнэн» (патриотическая молодежь). Когда же человечество соберется и выдумает какую-то третью силу, к которой не зазорно будет примкнуть?..
6 Различия можно очень наглядно выявить на примере «Патриотизма» Мисимы и «Семнадцатилетних» Оэ: если самоубийство представителя праворадикальных кругов Оэ изображает гротескно, то у Мисимы процесс самоубиения предельно эстетизирован, исполнен героического пафоса и важен для автора настолько, что он сам потом экранизирует эту вещь и сыграет (проживет) в ней главную роль. Фильм доступен на YouTube — см. «Yukoku» или «Patriotism or the Rite of Love and Death».
7 Ведущий исследователь японской литературы тех лет и не только, переводчик, близкий — насколько Мисима вообще подпускал к себе людей — друг писателя.
8 Из исполненной пафоса трагического, но тем не менее прекрасного поражения песни «Das Boot» Сергея Калугина, обращавшегося в своем творчестве и к столь милой сердцу Мисимы теме пилотов-камикадзе (песня «Вперед и вверх», клип которой смонтирован из японского фильма о камикадзе). Умерший на войне герой есть и в «Доме Кёко» — это брат Сюнкити, чью могилу мы вместе с ним посещаем. Боксер, которому совсем скоро предстоит стать чемпионом Японии и познать славу, откровенно и очень сильно завидует умершему брату: «Брат воплощал идеал действия. Его побуждали необходимые для человека такого склада стимулы: принуждение, приказы, чувство чести. Все это понятие долга, для мужчины в чем-то неотделимое от судьбы. А также действенное самопожертвование, радость боя и, как следствие, мгновенная смерть — у брата все это было. И еще у брата было, как сейчас у Сюнкити, сильное молодое тело. И как после этого самому Сюнкити долго жить, обнимать женщин, получать жалованье?! Сюнкити, который никогда никому не завидовал, завидовал лишь брату. „Брат хитрый. Ему не нужно бояться скуки, бояться мыслить: он стремительно обогнал жизнь“, — кричало у Сюнкити в душе».
9 «Персона» — так называется одна из самых подробных (почти 900 страниц) биографий Мисимы авторства Наоки Иносэ. Пока эта работа не переведена на русский, позволю себе отослать к собственной рецензии на книгу: Чанцев А. Мисима, денди всея Японии // Post(non)fiction. 2022. 28 февраля. https://russiajapansociety.ru/?p=35939.
10 В фильме, в частности, звучит песня «Forbidden Colours» Рюити Сакамото.
11 После колоритного — если его не выдумал сам Мисима, мастер автолегенд, — эпизода: писавший по ночам молодой клерк чуть не заснул на платформе и не сверзился под подъезжающий поезд. Тогда властный отец Мисимы сказал, что позволяет ему заняться литературой при одном условии — он станет лучшим. Мисима взял под козырек и исполнил наказ.
12 Нет ли в выборе имени персонажа некоторого троллинга Осаму Дадзая, писателя, своим талантом составлявшего прямую конкуренцию Мисиме, но для Мисимы крайне антипатичного? Дадзай пил, чуть ли не бомжевал, даже с собой покончил без приуготовленной ритуальности Мисимы: несколько раз пытался совершить традиционное двойное самоубийство «синдзю», в процессе умерла одна из его возлюбленных, и наконец очередная попытка привела к успеху — Дадзай утопился не в реке даже, скорее в сточной канаве. Сравните, как говорится, с масштабами Мисимы — вокруг места его самоубийства еще при жизни полиция перекрывала улицы и барражировали вертолеты журналистов. «Синдзю» своего Осаму Мисима даже не описывает: дескать, было в скандальных заметках в газете, что их цитировать?
13 Отметим, что Сэйитиро в «Доме Кёко» предполагает уже возможность метемпсихоза, перерождения персонажей — крайне интересно и то, что его тотально негативная оценка всего распространяется и на идею реинкарнации, которая станет так важна для Мисимы в его предсмертной книге: «Теперь актер умер, боксер получил увечье, художник близок к помешательству. Это было тихое, но явное безумие. Пройдя через личные трагедии, они выбрали сообразную своему характеру смерть, но, как считал Сэйитиро, дело на этом не закончилось. Они всего лишь бросили себя и свое тело в круговорот перерождений. По ту сторону физической и духовной смерти их ждал причудливо фантастический, омерзительный объект перерождения! Легенды о перерождении из древних земледельческих обрядов распространились по миру в разных формах, затронув не только Нью-Йорк, но и Европу, Китай Мао Цзэдуна, даже молодые, только что обретшие независимость страны Азии и Африки. Это было единственное в своем роде современное верование, история и идеи которого сопоставлялись произвольно. Некая идея выглядит умершей, но обязательно воскресает, идеализм, исчезнув, опять царит, но уже в новой форме. Получается, что идеи убивают друг друга. Однако Сэйитиро чувствовал, что сами легенды о перерождении, сама тайна перерождения — это неоспоримые признаки гибели мира. Он живет, веря в окончательное, бесповоротное, единое крушение мира, поэтому убежден: не существует ни новой жизни, ни перерождения».
14 Юнгер Э. Сердце искателя приключений / Пер. с нем. А. Михайловского. М.: Ад Маргинем, 2004. С. 24. Также см. уже цитировавшуюся песню Сергея Калугина:
Не печалься, мой друг, мы погибли,
Быть может, напрасно отказавшись мельчить
И играть с Пустотой в «что почем».
Но я помню вершину холма,
Ветку вишни в руке
И в лучах заходящего солнца —
Тень от хрупкой фигурки с мечом.
Мы погибли, мой друг.
Я клянусь, это было прекрасно!
Здесь — сознательно или интуитивно — дан важный вектор японской культуры: благородное искусство проигрывать. См. уже успевшую стать классической работу Айвана Морриса «Благородство поражения. Трагический герой в японской истории», доступную и на русском языке.
15 Для написания этой сцены он посетил настоящую вивисекцию — вот она, писательская тщательность, помноженная на японскую дотошность!
16 К «сбывшимся прогнозам» Мисимы можно отнести и открывающую роман сцену, в которой машину и самих героев на пляже атакуют местные пролетарии, — такой сценарий и сеттинг смерти выбрал для себя Пазолини (если принять за основную версию, что свою жестокую гибель он срежиссировал, — а почему ее и не принять, ведь для убийства по политическим или даже любовным мотивам можно было обойтись простым ножом где-нибудь в римской подворотне, куда, кстати, Пазолини нередко наведывался в поиске свиданий на одну ночь).
17 А Александр Дугин в своей книге 2022 года «В пространстве великих снов» оперирует термином «мягкий концлагерь».
18 Это автолегенда — на самом деле Мисима закончил книгу весьма загодя.
19 Торговый дом «Ямакава-буссан», экономическую деятельность которого со знанием дела обсуждает Мисима, и «поднял свой капитал», как показывает автор, именно в условиях послевоенной конъюнктуры.




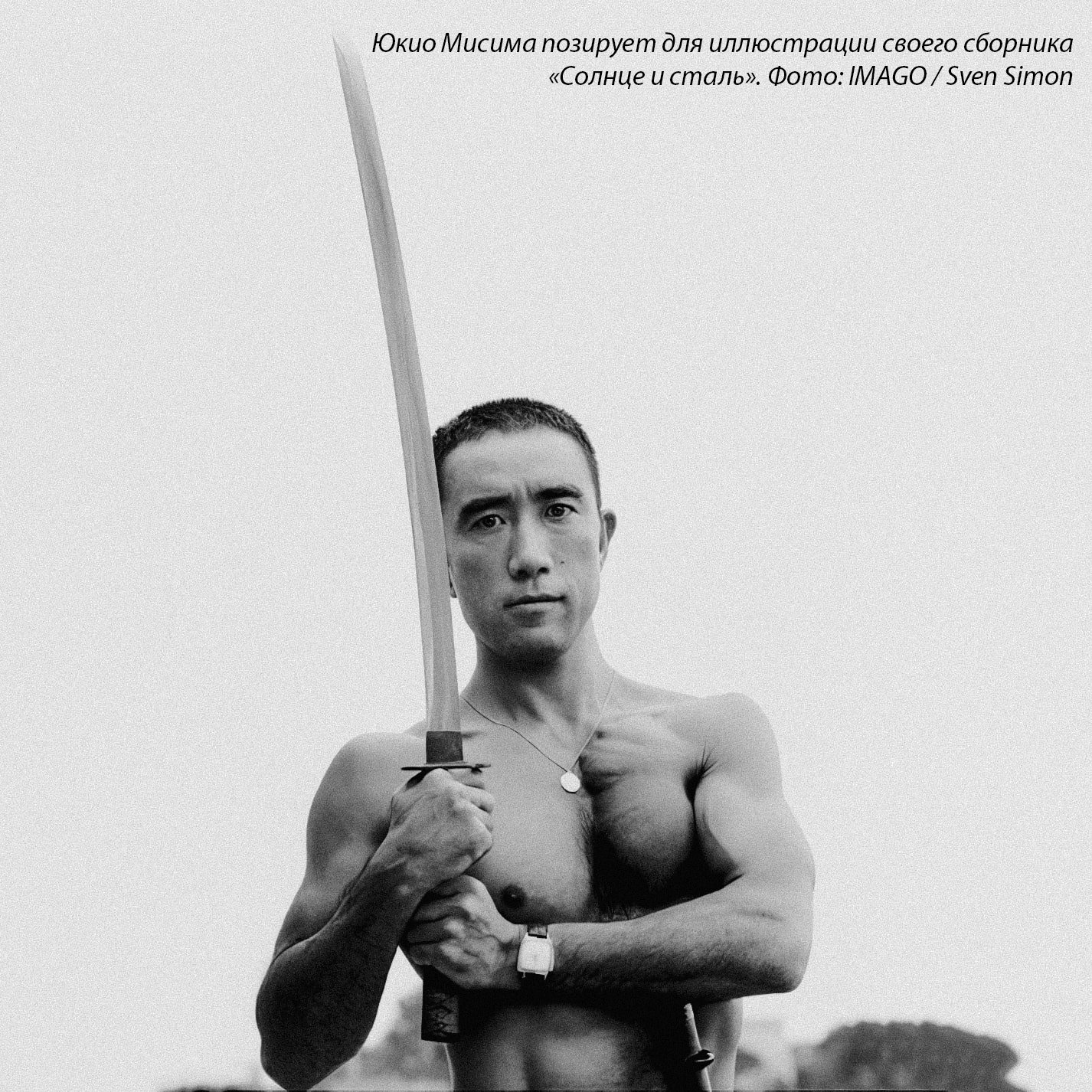


войдите или зарегистрируйтесь